Основным «спасителем» выступает Дашиъе — дословно «Великий старый дед», некий обобщенный предок. Его символический портрет, нарисованный на рисовой бумаге, висит перед алтарем в центре ритуальной площадки. Однако при этом подразумевается, что на самом деле это отнюдь не некий «Великий старый дед», а буддийская богиня милосердия боддисатва Гуаньинь, которая имеет власть над миром духов и может контролировать их поведение. Но и это — не конечный лик посредника в мире духов! Это также и Нерожденная праматерь (Ушэн лаому), и «Матушка-правительница Запада» (Сиванму). Как видно, в духовном мире отсутствует разделение на женские-мужские божества, это не более чем метафоры, характерные для народного сознания.
…???…
Илл. 145. Ушэн цзунъ, буддийский архатп, дарующий множество детей, хотя буддизм и предусматривает целибат
Отсутствуют и реальные различия между функциями божеств, что также показывает, что мы имеем дело не с божествами, наделенными конкретными функциями, что характерно для западного рационализма, а с неким воплощенным медиумом, выступающим всегда как андрогин.
И здесь, как в древних медиативных ритуалах, от духов не бегут, но, наоборот, «приглашают» их принять участие в церемонии. Дашиъе-Гуаньинь выступает посредником, страхующим участников от нападок вредоносных гуй. Характерно, что на церемонию приглашаются именно вредоносные гуй, и прежде всего «одинокие души» — эти люди еще при жизни потеряли все родственные связи, и их прямые родственники уже ушли из этого мира.
Дашиъе представлен всегда в максимально устрашающем виде: у него голубое лицо, рога на голове, красные глаза навыкате. Он должен напугать духов, заставить их действовать в соответствии с правилами и устранить любой беспорядок и хаос, которые гуй могут привнести в мир людей. Вспомним, что и древние шаманы-медиумы периода Чжоу также раскрашивали себе лица, перевоплощаясь в рогатого таоте, и пытались напугать духов. С другой стороны, здесь ощущается и влияние тибетского буддизма, ставшего популярным в Китае особенно в эпоху Цин.
Изображения тибетских божеств загробного мира, в частности бога Ямы, в большом количестве привозились в центральный Китай и стали популярны в том числе и в народных культах, сильно трансформировавшись. Их свирепый и устрашающий вид как нельзя лучше подходил к роли медиума, посредника между людьми и царством мертвых. Однако и они были как бы опущены на ступеньку ниже, превратившись в деревенских родственников-предков, типа «Великого старого деда».
На алтарь помещается также молитвенная лампада. Напротив главной двери на специальной табличке ставится жертвенная пища, обычно фрукты, для духов. Между ними помещается портрет голуболицего монстра Дашиъе. Таким образом, и здесь он выполняет свою посредническую роль, находясь между абсолютным порядком, спасением и началом ян (светильник) и миром духов, темным миром инь, представленным жертвенной пищей. Даже само понятие «светильник» (дэн) в китайской традиции понималось как «истинное учение», передача тайной традиции именовалась «передачей светильника» (чуань дэн), поэтому символически разыгрывается ритуал установления связи между истинным жизнеутверждающим учением и загробным миром.
…???..
Илл. 146. В облике этого божества, боддисатвы Гуаньинь, сочитаются как даосские, так и буддийские черты. Храм Гуанцзисы
Ничто так емко и ярко не выражает суть устремлений китайцев и их молений, как характер духов, изображения которых помещают на домашних алтарях или вешают при входе в дом. Большинство изображений земных духов несут на себе три или, по крайней мере, один из трех иероглифов: «фг/» — счастье, «лг/» — знатность, «шог/» — долголетие. В общем, это очень точно и, кажется, полно отражает устремления рядовых китайцев, начиная с глубокой древности и заканчивая нашим временем. Именно богатство, успешная карьера и доброе здравие являются идеалом для традиционного китайского сознания, а отнюдь не «долг», «ритуал», «почтительность», «гармония» и другие конфуцианские нормативы, являвшиеся тончайшей игровой ширмой. Утилитарное мышление выдвигало столь же прагматичные идеалы. И все это является отнюдь не нарушением ритма сакрального пространства, а, скорее, наоборот, его продолжением и материальным воплощением. Ведь и богатство, и знатность, и долголетие оказываются лишь вещным воздаянием за правильное поведение в мире духов и в случае удачи доказывают абсолютную безошибочность поведения человека в мире мистического.
Напугать и… договориться В средневековье стало принято разделять всех духов на небесных и земных. К небесным принадлежали те, кто управляет ветром, облаками, дождем и громом, к земным — духи пяти священных гор, четырех морей и т. д. Они были повсеместно, «проникали кругом как дым и пар», а потому вечное ощущение жизни в тесном соприкосновении с духами не оставляло китайца на протяжении всей его жизни. Жизнь сама превращалась в тончайший ритуал прохода по дороге таким образом, чтобы не разгневать духовные силы и одновременно умело воспользоваться их могуществом. Чрезвычайный страх перемешивался с огромным желанием получить максимум выгоды от мира духовного.
Некоторые месяцы года считаются особо опасными, в частности пятый месяц по лунному календарю, когда активизируются все силы мира духов, а духи-демоны становятся особенно вредоносными. Именно в пятый месяц сила ян достигает своего апогея, не случайно весна в ряде провинций севера Китая, например в Хэбэе, Хэнани, Шаньдуне, считается сезоном домашних несчастий, стихийных бедствий, наводнений, болезней. В пятый месяц из своих обителей приходят самые различные духи, среди них божества рек, гор, в озерах и реках можно встретить драконов, а людям являются их предки до третьего-четвертого колена. В какой-то момент духи пересекают границу своего мира, вторгаясь в жизнь людей, в их мысли, дела и даже в государственное правление.
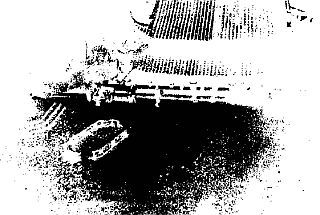
Илл. 147. Площадь, усыпанная кусками петард после ритуала очище от вредоносных духов у храма Мацзу. Провинция Фуиз
Постоянное духообщение требовало и своих защитников от «некорректно» ведущих себя духов.
Обычно в этой роли выступал Чжун Куй — особого вида экзорсист, сам являющийся одним из типов духов. Примечательно, что в западной традиции духов изгоняют из тела человека «словом Божьим», посредством мистической помощи Божьей, то есть прибегают к более высшему существу, дабы победить низших. Но в китайской традиции иерархия духовных сил, как было уже видно, совсем иная, она базируется на принципе тонких договоренностей и взаимодействий, здесь нет однозначно более сильного или более слабого божества. Чжун Куй явился одним из таких умельцев-защитников.
Чжун Куй претерпел стандартную для китайской традиции трансформацию из некогда жившего человека в духа: когда-то он был врачевателем, что жил в провинции Шэньси в VIII в.
Возможность воздействовать на духовные сферы открылась ему после сильнейшего шока, который он пережил, долго готовясь к уездным экзаменам, но дважды так и не сдав их. Свой провал он отнес на счет коррумпированных экзаменаторов, ожидавших от него, как ему представлялось, богатых подношений. Отчаявшись, он решил покончить жизнь самоубийством, избрав для этого весьма символичное место — ступени при входе в императорский дворец, по которым ему так и не суждено было подняться в качестве полноправного обладателя ученого звания. Сам акт самоубийства не смутил правившего тогда императора Сюань-цзуна (712–756), однако ступени дворца оказались осквернены и тем самым открыты для прохода злых духов внутрь покоев. Вскоре после этого случая император занемог, и в лихорадке ему привиделся странный сон, в котором он погибает от руки некоего красного духа, называвшего себя «Пустота и Опустошение». Император уже ожидал неминуемой гибели, но внезапно появился дух Чжун Куя и изгнал красного демона, а правитель тотчас почувствовал себя лучше и вскоре окончательно выздоровел. Явившись к императору в виде духа, Чжун Куй сумел поведать ему о своих горестях.