Это благоухающий, прелестный цветок рос рядом с нашей помойкой, обращенный всеми своими лепестками к небу и только к небу.
Поэтому мы редко пользовались возможностью пойти с какой-либо жалобой или просьбой к матушке-настоятельнице. Если же дело всё-таки доходило до разговора с нею, то матушка-настоятельница выслушивала жалобы девочек с явным усилием и неохотой. Было такое впечатление, будто кто-то заставляет ее пройтись по луже, а она не хочет этого и выслушивает сделанное ей нелепое предложение только ради приличия. После этого она, не высказав ни своего суждения по поводу жалобы, ни своего решения, мягким взмахом руки выпроваживала просительницу, а сама шла молиться в часовню. Щекотливый, волнующий вопрос так и оставался неулаженным, пока время и новые события сами не оттесняли его и не предавали забвению.
Было воскресное утро. Я мыла на кухне посуду. Матушка-настоятельница суетилась возле стола, на котором готовилась трапеза для ксендза. Ксендз должен был служить молебен в нашей часовне, а пока что в швейной мастерской он вел беседу с сестрой Модестой. Из угла я с любопытством наблюдала за лицом матушки, удивленная происшедшей в нем переменой: раскрасневшиеся, как у молодой девушки, щеки, горящие глаза и совсем земная, самая обыкновенная человеческая улыбка на губах – вот что видела я на нем. Матушка готовила завтрак почти с таким же увлечением, с каким прислуживала у алтаря. Меня, однако, поразило количество чаш, поставленных на поднос. Чаши эти были полны сливок: холодных, подслащенных и горячих, с пенкой и без пенки. За чашами было установлено множество тарелок: с маслом, вареньем, медом…
Когда матушка вышла за чем-то в кладовую, я сунула палец в чашу со сливками и облизала его. И до чего же вкусно! Но, услышав приближающиеся шаги, я быстро отскочила в свой угол и смотрела оттуда, как ловко раскладывает матушка-настоятельница на плетеной сухарнице хрупкие розанчики домашней выпечки, пухлые сладкие кайзерки[91] и румяные булочки с маком, доставленные из лучшей пекарни города. Матушка сосредоточенно перекладывала их с места на место, всё время прикидывая, где и какая из них будет выглядеть лучше – точь-в-точь, как моя сестра Луция на примерке нового платья. Меня она, казалось, совершенно не замечала.
– Прошу извинения, – обратилась я к матушке, – разве ксендз съест всё это один?
Настоятельница вздрогнула, бросила на меня испуганный взгляд и поспешно схватила в руки поднос, прижимая его к груди.
– Ведь, наверно, останется же половина? – продолжала я громко выражать свои мысли в тайной надежде, что, быть может, и мне что-либо перепадет с подноса.
Матушка нахмурила брови и, не проронив ни слова, быстро вышла.
Кончив мыть посуду, я выстирала грязные тряпки, сняла передник и побежала в сторону швейной.
Здесь я увидела Сабину и Гельку, которые торчали под дверью и по очереди заглядывали в замочную скважину.
– Стыдитесь! Что вы тут подсматриваете?
И, оттянув Сабину в сторону, я сана приникла одним глазом к отверстию. Ксендз-катехета сидел за столом, застеленным чистой скатертью, и с аппетитом поедал поставленную перед ним снедь. В другом углу швейной мастерской, спрятав руки в широких рукавах рясы, словно бронзовая статуэтка, стояла матушка-настоятельница.
– Ну вот видите, и ничего-то там нет особенного, – разочарованно зафиксировала я, обращаясь к девчонкам. – Ест – и всё.
Мы отбежали от дверей, и тогда Гелька со смехом воскликнула:
– Ест – и всё! Ха-ха! Значит, ты не видела, как матушка смотрела на ксендза, когда он разжевывал булку. Говорю тебе: она даже вся дрожала! Словно он намеревался вцепиться зубами и в нее!
– Как тебе не стыдно, Гелька! Ну что бы ей было хорошего от того, что он вцепился бы в нее зубами? Было бы больно ведь! Да и вообще всё это глупо и несуразно. Просто дико!
Гелька покраснела и рассмеялась с каким-то ехидством.
– Ну и глупая же! Четырнадцать лет, а ничего не кумекает! Теленок ты!
Туманные Гелькины намеки всё же не затемнили в моем воображении светлого образа матушки-настоятельницы. Я обожала ее покорную печаль, с которой она бесшумно передвигалась по коридорам, ее игру на фисгармонии, ее любовь к цветам и особенно к астрам, которыми она постоянно и собственноручно украшала часовню. Мне нравились задумчивость и серьезность, которые я неизменно видела на ее по-детски нежном личике.
Я была убеждена, что, погруженная всегда в свои глубокие размышления, она не замечает никого из нас. Каково же было мое удивление, когда однажды, проходя возле Гельки, она сказала, не поднимая глаз от земли:
– Я прошу тебя, Геля, носить волосы заплетенными в косы, как у всех девушек.
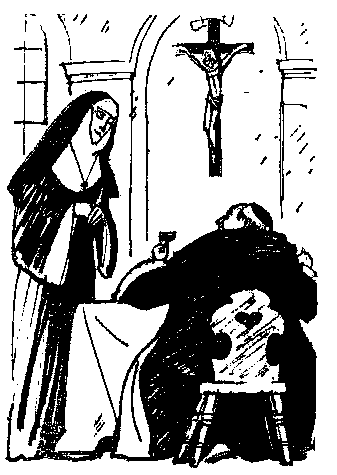
Волосы Гельки! Прекрасные, вьющиеся, ниспадающие на самые плечи рыжие волосы, которые были столь буйны и своевольны, что не хотели подчиняться никакой монастырской дисциплине, требовавшей обязательного заплетения волос в косы и перевязывания их тесемками!..
Несколькими днями позже мы с Сабиной несли корзину хлеба из пекарни. Неожиданно мы услышали знакомый смех. По другой стороне улицы шла Гелька рядом со стройным черноволосым пареньком и молчаливой, как всегда, Рузей. Все трое возвращались из коэдукацийной[92] вечерней школы. Гелька, очарованная видом изящного, стройного юноши, оживленно щебетала, не спуская с него глаз. Ее волосы были распущены, в восторженном голосе звучала искренняя веселость. Важно и чинно шагающая Рузя время от времени обращала свой взгляд то на ее лицо, то на лицо игривого паренька, после чего снова опускала глаза и шла настороженная и хмурая. Могло показаться, что это не Рузя, а будущая монахиня шла вслед за расшалившейся юной парой.
Не доходя нескольких шагов до калитки, паренек распрощался и повернул назад. Гелька с минуту смотрела ему вслед, потом сказала что-то Рузе, упорно продолжавшей глядеть в землю, быстро заплела косы, и обе они двинулись по тропинке в сторону приюта.
– Она всегда так делает, – сказала с завистью в голосе Сабина. – Сразу же за калиткой распускает волосы, а как возвращается с вечерних занятий, так снова заплетает, чтобы монахини ни о чем не догадались. Храбрая!
– Действительно, – согласилась я, выражая тем самым и свое удивление Гелькиной храбростью.
На другой день я вышла на крыльцо вытряхивать половики. Возле калитки стояла монахиня, будто поджидая кого-то. Она то и дело высовывала голову за калитку и тут же отскакивала назад.
"Ага! Это сестра Модеста караулит Гельку, чтобы схватить ее на месте преступления", – догадалась я, и сердце у меня забилось учащенно, беспокойно. Я бросила половики и помчалась за костел, намереваясь пробраться через дыру в заборе на улицу и предупредить девчат о грозящей им опасности. Но прежде чем я успела добежать до забора, у калитки раздался испуганный визг. Я повернула назад и со всех ног бросилась в ту сторону. Тем временем визг перешел в такой вопль, который способны издавать только люди, испытывающие страшную боль.
Гелька пыталась вырваться из маленьких, но сильных рук монахини, которая вцепилась пальцами в распущенные Гелькины волосы и била ее головой о калитку.
– Сестра Модеста! Сестра Модеста! – заорала я, запыхавшись, подбегая к калитке. – Не бейте ее, сестра! Сестра, что вы делаете? – Я схватила монахиню за рукав, и вдруг руки мои безвольно опустились.
Из-под черной вуали на меня глянуло до неузнаваемости перекошенное бешенством лицо матушки-настоятельницы…
На другой день лоб у Гельки был перевязан бинтами, а веки сильно опухли, видимо от слез. Встретив в коридоре матушку-настоятельницу, я испуганно опустила глаза. По телу у меня пробежала дрожь. И в то же время мне пришла в голову удивительная мысль: "А может быть, она и в самом деле любит смотреть на всех, кто уплетает пищу за обе щеки, работая челюстями, как жерновами, и при этом сама не прочь вцепиться во что-нибудь или в кого-нибудь зубами? Не потому ли она с таким вожделением смотрела на ксендза, когда он жевал булку?"