Громкий хор в соседней комнате распевал:
Между тем собрались остальные члены тайного общества. Пришел Никита Муравьев. Сверху спустились Матвей и Сергей, жившие тут же, в здании штаба. Александр Николаевич всех известил, что предстоит важное совещание.
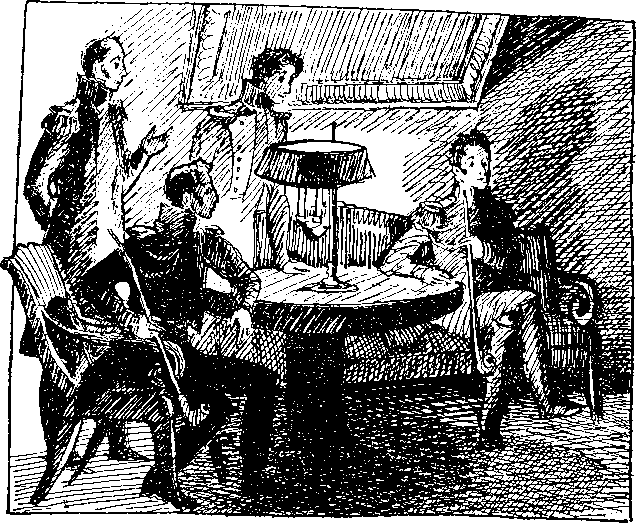
Офицеры мало-помалу расходились. Остались Никита, Матвей, Сергей, Фонвизин, князь Шаховской и Якушкин. Александр Николаевич пробовал задержать своего брата Михаила[28], но тот сурово ответил:
— Я стою на своем: медленное действие на мнения и перемена устава. Пестелевского устава не признаю ни в одном пункте. А ты, если хочешь, можешь заниматься глупостями.
Оставшиеся семеро членов тайного общества разместились около круглого стола. Александр Николаевич потушил свечи. Только две свечи горели на столе, прикрытые зеленым абажуром. Александр Николаевич уселся на диван. Якушкин, Матвей, Сергей и Никита расположились поодаль в креслах. На их лица падала тень абажура. Воцарилось молчание. Все напряженно ждали сообщения Александра Николаевича.
Александр Николаевич объявил, что только вот сейчас он получил письмо из Петербурга от князя Трубецкого с тревожными известиями, требующими немедленных решений. Дрожащими руками он вынул из портфеля письмо и стал читать.
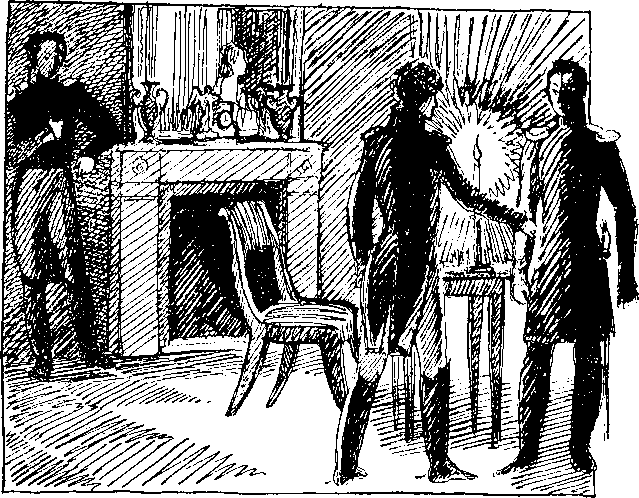
Князь Трубецкой начинал с описания бунта в Новгородской губернии. Казенные крестьяне в местностях, назначенных под военные поселения, отказались повиноваться. Аракчеев стрелял в них из пушек, кавалерия рубила их саблями, и они должны были покориться. «Мужикам обрили головы, — писал Трубецкой, — надели на них шинели, расписали их по полкам и теперь водят поротно и повзводно на полевые работы».
Он уведомлял далее, что государь окончательно предался иностранцам и готовится изменить своему народу. На параде он публично, в присутствии всей свиты, заявил французскому посланнику, что выправкой своих войск он обязан исключительно иностранцам, которые у него служат. Царь говорил графу Ожаровскому, что Россия — варварская страна, что русский народ сплошь сволочь и состоит из дураков или плутов. От России он хочет только одного: войска, которое нужно ему для действий в Европе. Наконец, он замышляет прямую измену. Он намерен отторгнуть от России западные провинции, присоединив их к Польше, и удалиться в Варшаву со всем двором предав отечество в жертву неустройств и смятений. «Настало время спасать отечество, — писал Трубецкой. — Теперь или никогда».
Александр Николаевич с усилием, прерывающимся голосом прочел последние слова. Все молчали, подавленные и потрясенные. Только Сергей был как будто спокоен. Скрестив на груди руки и сдвинув брови, он обдумывал что-то. Вдруг Александр Николаевич, склонившись к столу, зарыдал. Его рыдания прервали общее оцепенение. Все встали с мест. Только Якушкин по-прежнему сидел неподвижно, скрытый в зеленой тени абажура.
— Только бы дождаться караула! — восклицал в ярости князь Шаховской. — Только бы дождаться дня, когда я буду на карауле во дворце!..
Тогда поднялся Якушкин. Несколько минут он шагал из угла в угол в полутемной стороне комнаты, заложив руки за спину. Наконец он остановился у стола, слегка опираясь на него рукой. Свет из-под абажура падал прямо на его длинные, тонкие, слегка вздрагивающие пальцы. Он спросил спокойно и ровно:
— Точно ли вы полагаете необходимым устранение императора от престола?
Александр Николаевич молча оглядел бледные лица присутствующих и произнес, как бы выражая общее мнение:
— Между нами нет разногласий. Россия несчастна под управлением царствующего императора. Мы должны спасти Россию.
— Тогда не о чем рассуждать, — сказал Якушкин. — Нас тут семеро, и мы бессильны. Каждый должен действовать по собственному разуму и собственной совести. Тайному обществу тут нечего делать. Должен сделать один.
Все притихли. Колебался светлый круг на столе, и внутри светлого круга видны были упиравшиеся в стол длинные, тонкие пальцы Якушкина.
Лицо Александра Николаевича сделалось серым, губы побелели и запрыгали.
— Жребий! — глухо сказал он. — Мы бросим жребий, чтобы узнать, кто должен нанести удар.
— Вы опоздали, — прозвучал голос Якушкина. Я без всякого жребия решил принести себя в жертву и теперь никому не уступлю этой чести.
Он отошел от стола и снова зашагал по комнате. Добрые глаза Фонвизина мгновенно наполнились слезами. Он кинулся к Якушкину. Ласкал его, гладил по волосам, уговаривал, как старая, добрая нянька. Положив обо руки ему на плечи и нежно заглядывая в глаза, он лепетал сквозь слезы:
— Иван Дмитриевич, голубчик, добрый, хороший, опомнись, ты в лихорадке…
Якушкин вдруг рассмеялся с непритворной веселостью.
— Полно, Михаил Александрии, — сказал он, дружески обнимая Фонвизина, — я совершенно спокоен, и мозги мои в полном порядке. А чтоб тебя в этом уверить, давай сейчас обыграю тебя в шахматы.
Он придвинул столик, зажег свечу, поспешно расставил шахматные фигуры и принудил Фонвизина сесть. Сам играл стоя, не обдумывая ходов и быстро передвигая фигуры. Он расстроил пешечный фронт противника, отдал в жертву ферзя и ладью и, притиснув короля противника его собственными фигурами, дал мат конем и слоном. На двадцать пятом ходу партия была окончена. Фонвизин был порядочный шахматист, но был сбит с толку бешеным темпом игры.
— Король пал, несмотря на превосходство сил! — с торжествующей улыбкой сказал Якушкин, сбросив с доски побежденного короля. — Ну что? Кто из нас спокойнее?
Шутливый тон Якушкина, шахматная партия — все это разрядило атмосферу. Все, что только что произошло: письмо Трубецкого, жребий, вызов Якушкина, — представлялось уже не столь серьезным. Все как-то успокоились и повеселели. Александр Николаевич уже хлопал по плечу князя Шаховского и называл его «тигром». Матвей с сияющей улыбкой, как будто очнувшись от тяжелого сна, глядел на Якушкина. Фонвизин радостно твердил:
— Ну вот так, хорошо!..
— Ну что ж, разойдемся, — раздался тихий и серьезный голос Якушкина. — Прощайте, друзья.
— Иван Дмитриевич, как же?.. — растерянно проговорил Александр Николаевич.
— Мое намерение неизменно, — ответил Якушкин. — Что сказал, то и сделаю.
— Но ведь это невозможно! — в отчаянии воскликнул Фонвизин. — Я не могу без ужаса вообразить минуту, когда тебя взведут на эшафот.
— Я тебе не доставлю этого ужасного зрелища, — хладнокровно отвечал Якушкин. — Я отправлюсь с двумя пистолетами в Успенский собор и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелю в него, из другого в себя. Это не убийство, а поединок на смерть обоих.
— Так нельзя, надо обсудить… — волновался Александр Николаевич.
Он начал доказывать, что все сказанное в письме Трубецкого основано, может быть, на неверных слухах, что страшно поднимать руку на законного государя, что, наконец, он своим упорством погубит их всех, не одного себя.
— Значит, все, чему вы только что верили, по-вашему не более как вздор? — спросил Якушкин, нахмурившись. — Вы желаете быть спасителями России и в то же время признаетесь в преступном легкомыслии?
Подошел Сергей.
— Якушкин, верите ли вы моей искренности? — спросил он, останавливаясь перед Якушкиным и прямо глядя ему в глаза!
— Верю, — отвечал Якушкин.
— Пролитие крови есть или подвиг, или злодеяние! — сказал Сергей голосом, в котором прозвучала твердая убежденность. — Убийство себе подобного ради общего блага есть подвиг. Не оправданное необходимостью, оно есть злодеяние.
— Брут убил Цезаря! — ответил Якушкин.
28
Михаил Николаевич Муравьев — впоследствии виленский генерал-губернатор, прославившийся в 1863 году зверским подавлением польского восстания и заслуживший прозвище «Муравьев-вешатель».