— А я не продам. Мне дай мое!
— Кремень ты, однако.
— Труба это, Семен Григорьевич, истинный Христос, — почти всхлипнул Кадушкин, хватаясь за поясницу.
— А я, Федот Федотыч, учитывая новую установку на добровольное объединение мелких хозяйств, искренне верую в светлый путь нашей горемычной деревни. Честное мое слово. — Оглоблин вдруг позабыл о чае, о вспотевшей голове и начал говорить с оживлением, весь подавшись к хозяину: — Все деревенские корни станут работать на великое дерево государства по этой умной схеме. Бедняцкие хозяйства вперемежку с середняцкими при государственной помощи быстро оперятся. Вот тогда и поймешь, что это такое колхоз. Верую, встанут на ноги самые захудалые. Но не враз только. Не враз. Постепенно.
— Как не встать, — поддакнул Кадушкин, оживившись от гостя. — Ежели машины свои будут, как не встать. Что ж, дай бог, может, твоя правда выйдет. Без злобы бы только, голуба Семен Григорьевич. Постепенно.
— Ну вот, а ты — труба, труба. Труба будет лентяю. Так ему и сейчас труба. Но и зажиточные мужики, такие, как ты, к примеру, Федот Федотыч, вряд ли окажутся способными соревноваться с колхозом. Простое дело, — ведь государство трактор тебе не продаст, а с лошадкой ты все равно отстанешь. Какой из тебя соревнователь.
— Уж это истина, голуба Семен Григорьевич: трактор, он и из меня артельщика сделает. Я тебе как на духу откроюсь: ежели колхоз даст хороший пример, я, может, и плюну на свои загоны. Вот тебе истинный Христос, дай только приглядеться. — Федот Федотыч, придерживая одной рукой шерстяную шаль, повязанную на пояснице, другой рукой осенил себя веселым крестом: — Мне, голуба Семен Григорьевич, совсем немного надо: робить бы внатяг да чтоб семья вровень со мной шла. А государству я всегда надежный пособник. Но говори со мной без утеснения.
— Да ведь так и говорят с тобой, Федот Федотыч. Вот я русским языком объяснял и еще раз объясню. Город взял твердый курс на индустриализацию, а хлеба в стране нет. Мяса нет. И мелкие хозяйства в достатке не дадут нам ни того, ни другого. Мы должны создавать крупные хозяйства, по существу, фабрики зерна и мяса. Рано или поздно, хочешь ты того или не хочешь, жизнь заставит нас объединить усилия сельских тружеников, свести их в коллективные хозяйства. И во всех этих мероприятиях у государства, Федот Федотыч, нету ни к тебе, ни к хлеборобу вообще ни капли злобы. Государству нужен хлеб. И в духе этой неумолимой потребности будут разрушены все старые обветшавшие производственные отношения деревни и созданы новые. Это понять надо, Федот Федотыч, как закон, как судьбу, как неотвратимое. И когда мы говорим о крупном, высокотоварном хозяйстве, с машинами, удобрениями и своим агрономом, тут, Федот Федотыч, я снимаю шапку. Дело задумано святое.
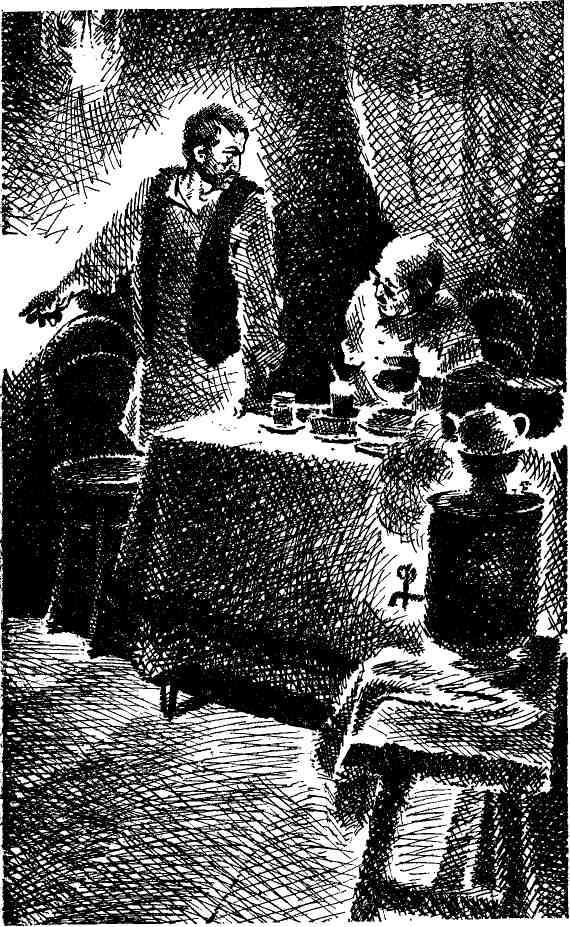
— Голуба Семен Григорьевич, и я говорю, что сниму свой малахай, но только перед жирным колхозом. А пока трудно верить. И рвется у меня голова на части от твоих слов. Двоится, Семен Григорьевич. Зазывное это дело — крупное хозяйство, но как подумаю о Егорках, нету веры ему.
— Так вот Советская власть-то и приглашает умелых да трудолюбивых вступить в новые хозяйства и взять там общее дело в свои руки. Вступишь в колхоз, Федот Федотыч, и будешь как опытный, образцовый работник. Нешто не завидно? Хотя и понимаю, что тебе это без нужды. Ты и без колхоза при норме. Но подумать и тебе не грех.
— Нет, нет. Ты со мной об этом больше не заговаривай. Я с лентяем в одном поле оправляться не сяду. Извини, не за столом будь сказано. Говоришь ты вроде правду. Это и австрияк Франц Густавович сказывал мне, что у них все мелкие участки земли, как наделы, что ли, по-нашему, ошинованы в крупные владения. Русская, говорит, десятина кормит пять-шесть ртов, а ихняя, в большом-то загоне, — все полтора десятка. А куда-то, до войны еще, он морем плавал, так там, сказывал, и в помине нет мелкоземелья. Да я, Семен Григорьевич, без всяких заморских умельцев знаю, что большие запашки расчетливей лоскутков. Дело артельное завсегда спорей выходит. Недаром мужик довеку завел артельщину, или помочь, по-нашему. Ты сам родился в крестьянстве, сам знаешь: дружно — негрузно, а врозь — хоть брось. Это еще до нас сказано. Но русская артель равняла мужика только в труде, а не в хозяйстве. Вы же, голуба Семен Григорьевич, все хотите поставить шиворот-навыворот, чтобы я, как и Егорка Сиротка, остался с одной ложкой да в одних портах. Извиняй, помешкаю с колхозом-то… Засиделись уж мы. Много ли ночи-то, Харитон?
— За, полночь, батя.
— Давайте по местам. Тебе, Семен Григорьевич, приготовлена моя кровать, а я пойду вниз, на печь. После бани, боюсь, не охватило бы поясницу. Спокойной ночи вам. — Спускаясь по внутренней крутой лестнице, Федот Федотыч тяжело, озадаченно вздыхал: — Разве уснешь теперь. Теперь до утра.
Семен Григорьевич устроился на кровати. Харитон увернул фитиль лампы и тоже собрался уходить в горницу, где уж притихла Дуняша, но Семен Григорьевич остановил его:
— Ты, Харитон, присядь-ка рядышком — словечко есть к тебе. Для двоих только, чур. Мне помнится, ты в оные времена собирался в колхоз. Было? Было. А теперь? Не передумал?
— Мне сейчас, Семен Григорьевич, никак нельзя отойти от батиной упряжки. Теперь уж как он, так и я. Ведь если мы с Дуняшей уйдем, что он один…
— И все-таки, Харитон, пора приспела всерьез подумать о своем будущем. Я не настаиваю, чтобы ты шел в колхоз, но ты должен знать твердо — не вступишь с самого начала вместе со всеми, потом не примут. И будешь снова отщепенцем, элементом и прочее. А ведь хозяйство, которое вы ведете, не имеет будущего. Почему не имеет? Странно. Милый Харитон, почему придет в упадок ваше хозяйство, понимает даже Федот Федотыч. А тебе, молодому человеку, надо не только бы понять, но и шагать в ногу со временем. Хозяйство ваше хизнет по ряду причин. Вот с весны дадут вам дальние земли. Раз. Запретят аренду. Два. С созданием колхоза исчезнут наемные руки, без которых вы не обходились в горячую пору. Наконец, есть решение правительства не продавать более частнику машин. Да что машин, кооперация соли не продаст. Понял теперь? Вот как складывается обстановка.
— Семен Григорьевич, так ведь это и есть наступление на частный сектор.
— Милый Харитоша, а я-то о чем толкую. Оно самое, экономическое наступление.
— Однако правительство, Советская власть, не должны силком давить и терзать честного крестьянина. Я слежу за газетами. Нету таких призывов.
— А я разве сказал, что есть. Ты и сам видишь, что в руках государства множество верных, так называемых экономических, рычагов воздействия на мужика. О репрессиях, которых так боится Федот Федотыч, сейчас, разумеется, не может быть и речи. Да мы о них и не говорим. Но борьба есть борьба, хоть она и экономическая, и, как во всякой борьбе, будут свои победители и свои побежденные. Однако…
— А мы с батей хотим в сторонке вести дело свое.
— И ведите, только тебе знать бы следовало, что отец твой, Федот Федотыч, — пень старый, век свой изжил и сам по себе на своей делянке изойдет. А вот твоя судьба и судьба моей племянницы Дуняши меня весьма занимает, и я боюсь, чтоб вам не оказаться побежденными.
— Но ведь со вступлением в колхоз пока не горит. Или уж вот теперь же надо?
— Не горит. Нет, не горит. Есть время подумать. Но до землеустройства. Да ведь если решишься, так что же медлить-то. Право слово, трудно с вами вести разговор. То да по тому.
Харитон сидел на стуле, уронив плечи и стиснув коленями руки, сложенные ладонь к ладони. Уловив раздражение в голосе Семена Григорьевича, поднял на него свои покорные глаза:
— Да ведь я что ж, Семен Григорьевич. Если ваш такой совет, вам виднее. Я, пожалуй, и запишусь. Хоть завтра.
— Я не тороплю, Харитон, Не тороплю и не настаиваю. Хочу только, чтоб ты видел свою жизнь чуть подальше устоинской поскотины.
— Я понимаю, Семен Григорьевич. Понимаю, не будет нам прежнего житья. Мы с Дуней хоть кому работники. Колхоз, так пиши колхоз. Отца только и жалею. Один он у нас. Сердиться станет. Да, видно, другого выхода нету.