Отец засуетился, когда меня увидел, как будто ему стыдно было, что он читает сценарий, и я сделал вид, будто не заметил, что он там делает за столом. Но он сам сказал:
— Вот читаю. Хорошая вещь.
Мы помолчали.
— Я тебе поесть приготовил, — сказал отец.
Кухня у нас то же, что передняя. Дверь с лестницы открывается прямо в кухню. И я только открыл дверь, увидел, что на плите что-то варится в кастрюле.
— Каша гречневая, — объяснил отец. — Повар один интервью в газете давал. Как он с нашими спортсменами на Олимпийские игры ездил и там их всё кашей гречневой кормил. За границей гречневой каши днём с огнём не сыскать.
Мы разложили кашу в тарелки и принесли в комнату. Отец аккуратно закрыл сценарий и отложил его на диван. Нарезал хлеб, и мы уселись друг против друга.
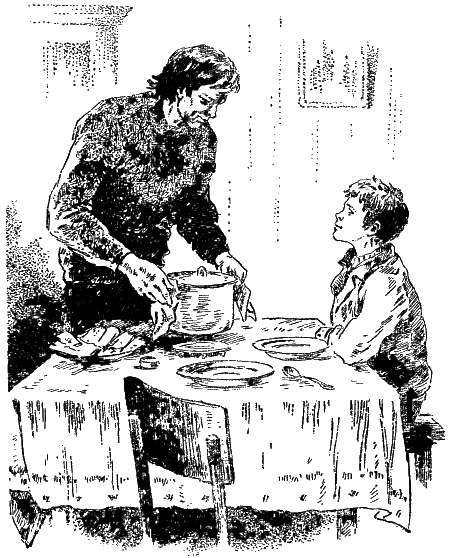
— Чай-то забыл! — спохватился отец и пошёл кипятить чайник.
Я слышал, как он наливает воду в чайник и как гудит водопроводная труба. Давно мы не сидели с отцом друг против друга, вот так, как сейчас.
— Я ведь твою зарплату сегодня получил, — сказал отец. — Хорошо тебе платят. Я деньги в коробочку из-под чая положил. Только пирожные купил и тебе — вон там, посмотри… на тумбочке лежит.
Я оглянулся. На тумбочке лежал пакетик. Я оставил кашу и развернул бумагу. Там была белая нейлоновая рубашка. Точно такая, как Кирюхе в прошлом году на день рождения подарили.
— Здорово, — сказал я.
— Примерь, — обрадовался отец. Меня продавщица спрашивает, какой размер, а я говорю: «На тринадцать лет». Она говорит: «В тринадцать лет ребёнок разной величины быть может». Я присмотрел мальца с тебя ростом и показал продавщице — и вот купил.
Воротник оказался большой, и шея в нём болталась. Рукава были длиннее, чем руки. Но всё равно рубашка была очень красивая, и мы стали толкаться с отцом около тёмного зеркала над раковиной в кухне. Когда я вставал на цыпочки, рубашку было хорошо видно. Отец радовался и говорил, что даже лучше, что велика, раз я быстро расту.
Мы ели кашу с молоком, и было очень хорошо.
Потом отец вызвался сходить в магазин купить чего-нибудь на ужин, а я стал делать уроки. Отец долго не возвращался, и я оделся и пошёл в гастроном. В гастрономе было много народу, но в винном отделе из знакомых — никого. Зато в той кассе, что выбивала чеки на колбасу, в очереди стоял отец, и около него ошивался его знакомый по кличке «Мясник». Я подошёл к отцу и сказал:
— Ты чего так долго? Мне уходить надо, а тебя нет.
Отец заулыбался (ненавижу, когда он вот так улыбается) и говорит:
— Я, сынок, ботинки подбил в срочном ремонте.
Мясник меня за плечи обнял.
— Эх, Алёшка, Алёшка, отец у тебя мировой. Умный мужик. С таким и поговорить приятно.
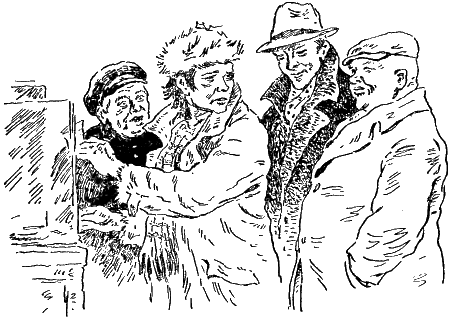
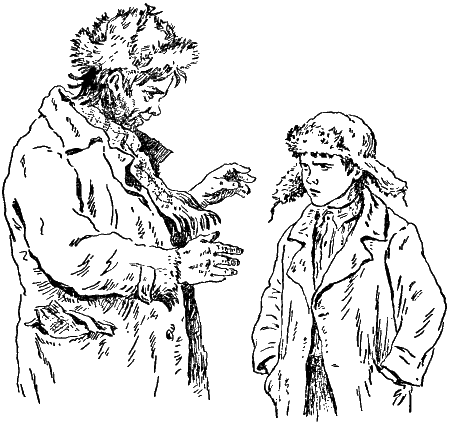
Я отцу говорю:
— Идём.
А он выбил двести граммов докторской и замешкался. Его Мясник за локоть держит, не выпускает.
— Идём, — говорю.
— У нас с отцом дела, — говорит тогда Мясник. — Ты, Алёша, иди, а нам поговорить надо.
…Когда я вернулся домой со съёмки, то увидел: коробка из-под чая, где лежали деньги, пуста.
Глава пятнадцатая, в которой у оператора Лямина болит старая рана
Иногда по вечерам на меня находит тоскливое чувство одиночества. Вообще-то я привык быть один и даже нахожу это удобным, но иногда…
Хорошо, что это случается нечасто. Тогда, когда болит нога и тупая, тянущая боль в пояснице (последствия ранения) укладывает меня на диван. Я лежу, не зажигая света, не задёрнув штор, и вижу, как в доме напротив приходят с работы, рассаживаются за столом, едят, пьют, разговаривают. Остывает грелка под ногой, гаснет моя трубка. Я пережидаю, пока утихнет боль, и поглядываю в окно: что там делается, в доме напротив?
Телефон стоит на диване рядом, но, признаться, я не люблю телефонных разговоров. И сегодня звоню только потому, что уверен, что в школе никого нет, учительская давно опустела и мой звонок останется без ответа. Странно, но кто-то поднимает трубку.
— Да, это я, — говорит Наталья Васильевна, — конечно, я вас помню. Мы только что расстались с Алёшей. У нас был вечер, посвящённый Гоголю. Мы не могли найти Алёшино пальто, поэтому задержались.
Этот детский голос всплывает в моей тёмной, пустой, наполненной одиночеством комнате. Он лепечет что-то о потерянном пальто, каком-то мальчике по имени Репа (странное имя!) и о мальчике по имени Кирилл. Я не понимаю, о чём идёт речь, да и не пытаюсь понять. Хочется только, чтобы другая, непохожая на мою жизнь теплилась на противоположном конце провода и не потухала.
— Нет, слушаю. Это я пытался раскурить трубку. Да, я курю трубку.
Разговор вдруг обрывается. Напряжённая тишина устанавливается в трубке.
— Аллё, аллё! — кричу я и с облегчением слышу:
— Да, да, слушаю.
— А я был уверен, что никого уже нет в школе.
— Зачем же вы звонили тогда?
Молчу, как пойманный на лжи мальчишка. Растерян и не пытаюсь вывернуться.
— Аллё, аллё! — раздаётся в трубке.
— Да, да, — говорю я. — Что-то с телефоном. Плохо слышно. Как дела у Алёши?
— Хорошо, Алёша раскрепостился, стал мягче, свободнее. У нас в педагогике это называется «контактнее». Дети это чувствуют. Они не только интерес испытывают к той ситуации, в какую попал мальчик, но и улавливают то, что с ним происходит.
Маленькая, похожая на девочку женщина, способная многое тонко почувствовать, заговорила вдруг на языке учебников педагогики, и, слушая её, я улыбался. «Контакты», «раскрепощение», «новые впечатления» — какие смешные слова!
— Нет, нет, слушаю. Внимательно слушаю. Дети, наверное, более чутки, чем взрослые, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. О детях я не знал ровным счётом ничего.
— Что вы! Дети жестоки гораздо больше, чем взрослые. Это неосознанная жестокость. Ведь дети не страдали, и сострадание им тоже не всегда доступно. У нас в классе висит Доска соревнований. Каждое звено рисует свой график успеваемости. Алёшино звено всегда отставало из-за Алёши. Кривая у них падала ниже всех. Ребята очень сердились на Алёшу и в один прекрасный день сказали мне, что исключают его из звена. Я долго говорила с ними, еле убедила.
— А теперь они не хотят исключать его?
— Теперь он их заинтересовал. Когда он выходит к доске, все замолкают. Обычно по классу шорох ходит, а тут замолкают. Его разглядывают, изучают, пытаются понять, чем он отличается от них. Я его вызывала вчера, и он так бойко начал, а потом заметил, как пристально на него смотрят и что Кирилл ему подсказывает, и замолчал. Чувствую, что он знает урок, но молчит намеренно. Ему, наверное, кажется, что он как был белой вороной, так и остался. И он из упрямства молчит. Я ему самые разные вопросы задавала и так пыталась расшевелить, и этак — ничего не получилось! Пришлось поставить двойку.
— А кто такой Кирилл?
— Кирилл — наш отличник. Не знаю, можно ли дружить с Алёшей, ведь он всех держит на расстоянии, но если можно, то Кирилл — Алёшин приятель. Никто не понимает, почему он тянется к Алёше.
— Может быть, как раз он понимает Алёшу?
— Возможно. Хотя понимание встречается среди детей редко.
— Вы так много знаете о детях. Вам, наверное, легко со своими собственными детьми.
— У меня нет детей.
Разговор внезапно иссяк. Я думал, что вопрос о собственных детях даст ему новый толчок, и мы будем ещё долго говорить с Натальей Васильевной, и я узнаю что-нибудь не только об Алёше, но и о ней самой, а получилось наоборот. Наталья Васильевна резко оборвала разговор. Мне осталось только проститься.
Да и чего это я схватился за телефон? Какой-то малознакомый человек звонит в школу поздно вечером, уверяя, что не рассчитывал там никого застать, потом расспрашивает об учениках и, наконец, лезет с неделикатными вопросами. Я совсем забыл, как следует разговаривать с женщинами. А уж звонить им, когда лежишь на диване с грелкой и кажется, будто во всём мире нет ничего, кроме боли в пояснице, и вовсе не следует.