До города Киренска ехали семь дней. В Киренске сделали остановку на одни сутки. Конвойные, добродушные старики из якутских казаков, разрешили Павлу Ивановичу одному прогуляться по городу.
— Чай, не убежишь, — на всякий случай сказал один из них, отпуская Лугова. — Бежать-то здесь некуда, особенно зимой. Замерзнешь в тайге, как птаха малая. Каталажка в этих краях самое теплое место для ночевки.
Павел Иванович недолго был в отлучке: Киренск ему не понравился. Городок был маленький, невзрачный, улицы пустынны, окна домов плотно закрыты ставнями. Лугову повстречалось всего человек пять — у всех были угрюмые, озлобленные лица. «Да, настоящая дыра, — думал Павел Иванович, возвращаясь. — Заживо погребенная в таежной пучине жизнь».
…Лошади резво бежали по заторошенной осенним ледоходом могучей сибирской реке. Покрытые заиндевевшими, засахаренными лесами горы плотно обступали Лену по берегам. По ночам над ними одиноко висела бледно-желтая, холодная луна. Иногда с гор на реку сползали сухие туманы, и тогда приходилось ехать медленнее, чтобы не потерять дорогу и не разбить возок о глыбы льда.
Между станциями Веледуйском и Крестами повстречался тунгусский вьючный караван. Важно закинув назад ветвистые головы и плавно раскачиваясь, шли по льду олени. Рядом с ними семенили одетые в какое-то фантастическое тряпье из звериных шкур, съежившиеся на морозе морщинистые тунгусы-погонщики.
В селении Мухтуя Павел Иванович впервые увидел якутскую юрту. Это было убогое, полуразвалившееся сооружение — низкий деревянный каркас из толстых прутьев, покрытый смесью глины и навоза. Внутри душно, грязно, тесно. В одном углу стояла корова, у ног которой ползали чумазые полуодетые ребятишки, в другом, тесно прижавшись друг к другу, сидело несколько взрослых якутов с широкоскулыми лицами и маленькими, подслеповатыми глазами. «И в таком аду, среди этих полудикарей мне предстоит прожить не один год», — с тоской подумал Лугов.
Спустя месяц после выезда из Иркутска, Павла Ивановича привезли в Якутск. Города он почти не видел: начались знаменитые якутские морозы с туманами и снегопадом.
Проведя всего две ночи в большой деревянной тюрьме, расположенной в нескольких километрах от города, Лугов был назначен на жительство в Нюрбинский наслег Вилюйского улуса, о чем ему сообщил в самой тюрьме чиновник особых поручений якутской губернской канцелярии. Через две недели Павел Иванович подъезжал к Нюрбинскому наслегу — небольшому якутскому сельцу, насчитывающему десятка полтора деревянных домов и столько же глиняных якутских кибиток.
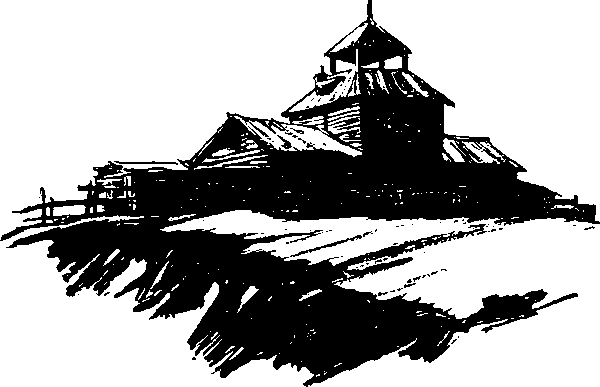
Через неделю Лугов послал письмо в Петербург, Кате.
«Милая моя Катюша, — писал Павел Иванович. — Вот я и приехал на место. Устроился сносно, только мороз проклятый очень уж одолевает. Тебя, конечно, интересует место моего жительства. Село Нюрба стоит на левом берегу реки Вилюя. Село маленькое, глухое — всего два раза в год сюда приходит почта.
По дороге я проезжал город Вилюйск, в котором жил Николай Гаврилович Чернышевский. Побывал в его доме — большом деревянном полусарае, полутюрьме, который был специально построен для знаменитого польского революционера Огрызко.
Милая Катя! Я чувствую необыкновенный прилив новых сил, которые помогут мне жить в здешних диких местах. Я буду работать, я буду продолжать свою диссертацию, я буду учить грамоте нюрбинских ребятишек (ведь в Нюрбе нет ни школы, ни учителя, и все население, кроме русского попа, поголовно неграмотно). Об одном прошу тебя (нет, я не смею просить, — я молю тебя!): приезжай ко мне повидаться летом, когда от Иркутска установится прекрасная водная дорога по Лене, и ты к осени успеешь вернуться по реке же обратно. Ты даже не представляешь, как поднимет мой дух это свидание с тобой, и тогда все здешние ужасы будут мне нипочем.
Приезжай, Катенька…»
Прошло четыре года. Каждые шесть месяцев Павел Иванович получал из Петербурга письмо. Катя сообщала всякий раз, что готовится к поездке, но по разным обстоятельствам приходится откладывать ее от лета к лету.
Первое время Лугов жил в глиняной якутской кибитке, но потом перебрался в дом инородной управы — самое большое, после церкви, деревянное здание в Нюрбе.
С местными жителями у Павла Ивановича установились дружеские отношения. Два раза в неделю Лугов собирал в здании управы человек двадцать якутских ребятишек и учил их русскому языку и арифметике.
В жаркие летние месяцы часто можно было видеть, как Павел Иванович в просторной блузе и широкополой шляпе бродил по берегу Вилюя окруженный толпой ребятишек. Глядя, как он лазит по обрывистому берегу реки, как копается вместе с ребятами в гальке, пожилые якуты щелкали языками и говорили с уважением:
— Хорош Пашка сударской! («Сударской» — так переиначивали якуты термин «государственный преступник».) Честный сударской! Добрый, светлый душа имеет!
Весной 1909 года незнакомый якут, приехавший в Нюрбу ночью по труднопроходимой тропе от Олекминска через Сунтар, передал Павлу Ивановичу тяжелый, зашитый в рогожу тюк. В нем лежали посланные Луговым из Кейптауна в Петербург образцы африканских кимберлитов и письмо от Кати.
Когда Павел Иванович хотел отблагодарить якута за посылку, тот отрицательно замотал головой:
— Ничего не надо. Твой баба в Киренске хорошо заплатила мне. Ничего не надо.
Катя в Киренске? Павел Иванович дрожащими руками разорвал конверт.
«Здравствуй, Павел! — писала Катя. — Закончив все свои дела в Петербурге и попрощавшись с родными, я поехала в Якутию, чтобы навсегда остаться жить с тобой вместе. Я честно доехала до Киренска. Я полтора месяца тряслась по отвратительной дороге в грязном тарантасе в компании каких-то пьяных ямщиков, которые каждую ночь приставали ко мне с мерзкими предложениями. Я испытала массу унижений в иркутском жандармском управлении, пока оформляла свои бумаги. Я, наконец, плыла на барже от Качуги до Киренска вместе с каторжниками, убийцами, сифилитиками. Я плакала по ночам. Я огрубела. Но больше я не могу.
Не суди меня строго, Павел, но за время этого ужасного, нечеловеческого путешествия я поняла, что я не товарищ тебе по борьбе, что мы с тобой не будем счастливы вдвоем в этих местах. После жизни в Петербурге я не смогу пробыть здесь даже одного года. Я буду страдать, мучиться, буду терзать тебя, а не помогать тебе, не облегчать твою участь.
До этого я, выросшая в средней русской дворянской семье, не представляла себе, до какого предела может опуститься человек. Даже в самом жарком бреду мне не могло пригрезиться то, что я увидала по дороге сюда.
Милый Павел! С большим трудом я решилась на этот шаг. Но лучше кончать сразу. Так будет легче и для тебя и для меня. Приехать на одно лето, а потом снова вернуться в Петербург я не могу. Это ранит душу на всю жизнь. Нам нужно расстаться навсегда.
Ты обманулся во мне, Павел. Я не сильная — я слабая. Десять лет разлуки уже кажутся мне большим сроком. А ведь еще неизвестно, что будет дальше. Жизнь сейчас складывается так, что люди с твоей душой, с твоими взглядами подвергаются все большим и большим гонениям. И чтобы вынести все это, нужно иметь внутри что-то более твердое, чем, очевидно, имею я. Ты должен понять меня, Павел, — я не гожусь тебе в спутницы.
Я продала все, что имела, и наняла на эти деньги человека, чтобы послать тебе твои бумаги и те образцы, о которых ты просил.
Прощай, Павел! Если можешь — прости мне ту боль, которую я тебе причинила. Я тоже очень страдаю. Катя».
Сунув письмо в карман, Павел Иванович выбежал из дома. Катя в Киренске! Он сможет догнать ее в Иркутске, если поедет с якутом-проводником по тропе через Сунтар. Надо только получить разрешение от исправника!
Исправник Кожухов слушал Павла Ивановича, глядя в окно. Нет, он не может нарушить инструкции о содержании ссыльнопоселенцев. Надо иметь письменное разрешение от самого губернатора.
Павел Иванович сел на скамейку и зарыдал. Кожухов, кряхтя, вылез из-за стола, налил в кружку воды, поставил перед Луговым и вышел на улицу.