Ну вот. А ты, Оксана, жить мне не давала. То и дело слышишь: не пей да не пей, не пей да не пей. Все талантливые люди хоть иногда да выпивают. Шесть великих американских прозаиков пили, а седьмой — Стейнбек — крепко выпивал. Не надо кривить губы, Оксана. Да, положим, я не знаю, что это за шесть прозаиков, да и фразу случайно вычитал в какой-то гребаной литературной газете, ну и что с того? Ах, Оксана, я так устал. Мне так нужно расслабиться. Я наливаю себе еще на два пальца и бережно ставлю бутылку в умывальник. Коньяк что надо. Не понимаю родителей, рассуждаю я, приглядывая одним глазком за Матвеем, которые хоронят себя заживо. Зомби, бляха. Жизнь на то и жизнь, чтобы радоваться. Радуйся сам, давай другим. Я заработал неплохие деньги. Это стоит отметить, не так ли, Оксана? Я устал, я полгода не спал, был поваром, нянькой, постирушкой, педагогом, мать его, певцом колыбельных и, как оказалось, продлил себя в этом качестве на неопределенное количество времени.
— Это нужно обмыть, правда, Оксана?
О, Оксана, моя Иеманжа ванных вод…
Правда, милый, отвечаю я себе за нее. Я наполняю ванну для ребенка теплой водой, и несу ее в комнату, поигрывая, для себя, конечно, мускулами. Вот это мужик! Тридцать литров несет и глазом не моргнет. В карманах куча бабок, и через недельку едет на море. Целый месяц у моря, и все ради сына. Мне аплодирует весь мир. Я добавляю в ванночку отвара какой-то травяной гадости, потому что мальчик стал почему-то чесать ноги, и аллерголог посоветовала мне эту гадость, и беру его на руки.
— Но-но-но, — говорю я себе, улыбаюсь и кладу ребенка на пол.
Возвращаюсь на кухню, выпиваю еще, и только потом иду в комнату. Конечно, я страшно бдителен. Призрак покойной дочки Кролика, утопленной дурой-женой в ванной, не дает мне покоя. Я собран, мои движения отточены и все такое. Я беру Матвея под затылок одной рукой, другой за ножки, и окунаю его в торжественно молчащую воду цвета золотистой корки хлеба. В ней отражается свет люстры, которую успела заказать моя покойная жена. Свет горит рядом с лицом ребенка, и я отворачиваюсь, но держу тельце крепко. Я собран и все такое. Но когда я поворачиваюсь, голова его соскальзывает в воду, и он что-то выдавливает из себя, смешно булькает и хрипит, а я совершенно ясно понимаю, что валюсь набок, а сил опрокинуть с табуреток ванну у меня нет, и я понимаю, что не только валюсь набок, но и что мой сын тонет. Умирает, не понимая этого. Это надо обдумать. Я застываю, лежа на полу. Долго гляжу на пятно от клюквенного морса, аккурат под табуретками, после чего вспоминаю. Ах да. Матвей.
Я ставлю себя на ноги, и проходит, наверное, целая вечность, пока я встаю. Я заглядываю в ванну. Я вижу.
Под водой, с редкими расплывшимися волосами, погруженный целиком, лежит, покачиваясь, как в волнах, мальчик. От него наверх не идет ни пузырька. Над его лицом мерцает отражение люстры. Ребенок смотрит на меня.
Я смотрю и смотрю, и не могу пошевелить даже веком. Я в наваждении.
Наваждение уходит, когда он моргает.
Прямо под водой.
* * *
Часа три мы кричали и плакали.
Выкачав из него воду, успокоив, еще раз выкачав воду, согрев, убаюкав, утешив, еще раз успокоив, уложив его спать, я скрючился на полу ванной. Плитка холодная, и меня знобит. Я понимаю, что лучше мне умереть после того, что произошло. Это единственный выход для мужчины — умереть после того, что произошло.
И после того, что едва не произошло, мне тоже лучше сдохнуть.
Ирония ситуации состоит в том, что перерезать себе вены на руке из-за того, что мне было стыдно, — а мне было очень стыдно перед Матвеем, — я не могу. Ведь в таком случае его жизнь опять оказывается под угрозой.
Чтобы спасти его от отца-психопата, я должен спасти отца-психопата.
Я плачу, свернувшись вокруг унитаза, оплакиваю Матвея. Оплакиваю просто потому, что за него сегодня некому было заступиться. Бедный Матвей. Тонул, и вот тебе на.
Ни одной живой души рядом не оказалось.
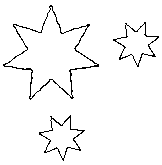
1. Фа — горячо.
2. Ай — ни фига себе как горячо!
3. Фа — холодно и неприятно так, как будто горячо.
4. Буль — купаться.
5. Бульбуль — купаться в душе.
6. Се — купюры любого достоинства любой страны мира.
7. Папа — папа.
8. Кав-кав — лягушка.
9. Кав-кав — мочалка в виде лягушки.
10. Иа — лошадь.
11. Иа — зебра.
12. Иа — осел.
13. Иа — любое копытное.
14. Го-го — становись раком, чтобы я мог залезть тебе на шею, и ты катал меня, как иа.
15. Ия-я-я-я — маленький ребенок.
16. Мама[5] — любая женщина в возрасте до 40 лет.
17. Мама-мама! — любая уходящая женщина в возрасте до 40 лет.
* * *
— Папа, се! — кричит он.
В смысле, дай денег. «Се» — деньги. Удивительно, всего год, а соображает. Я даю ему денег, и он ковыляет по песку к мороженщику. Наверное, не стоило бы позволять ему есть мороженое. Хотя, кто меня попрекнет-то? А малый и вправду крепкий. Что ж. Кто не утонул, того не пристрелят, со стыдом вспоминаю я и любуюсь Матвеем. Мальцу удалось невозможное: каким образом этот инопланетянин, ни хрена не понимавший и ловивший какой-то антенной в своей лысой башке — кстати, пора идти проверять родничок, нервно вспоминаю я, — непонятные мне сигналы, переродился. В самого настоящего человека. Маленького, но — человечка. Матвей. Он красив и бежит. Ему год. Год уже. Как-то все очень быстро прошло: мне говорили, что я этого не замечу, и, как обычно бывает, пошлые изречения и истины вроде «год пройдет — не заметишь», оказались правдой. Странно, почему все идиотские банальности оказываются в конце концов правдой? И если в них содержится весь многовековой опыт человечества, или как там пишут в газетах, то почему нельзя облечь этот опыт, так его, в какую-нибудь менее затертую словесную упаковку?
Матвей вырос удивительно красивым мальчиком.
— Все родители, — ласково щерясь, говорит мне знакомая из далекого прошлого, держа на руках толстую трехлетнюю девочку, — считают своих деток красивыми. Моя для меня, пусть и косоглазенькая, все равно самая красивая!
Я едва сдерживаюсь, чтобы не послать ее куда подальше, да еще и по голове не звездануть. С агрессией у меня в последнее время проблемы, поэтому отпуска я ждал как евреи — манной кашки, или молочного супчика, или чего им там насыпал с неба щедрый Иегова? Наверное, это из-за того, что правило «не бьем никогда» по отношению к Матвею действует и будет действовать вечно. А поскольку он выводит меня все же часто, выплеснуть это хочется в кого-нибудь другого. Например, в эту идиотку. Ведь есть за что. Матвей — говорю это абсолютно беспристрастно — красив. По любым меркам. Светловолосый, в деда, зеленоглазый, в мать, большеглазый, в меня. Кажется, в моей семье наконец-то появился красавчик. Обо мне так не скажешь: да, иногда я бываю смазлив, но вот чтобы красивым — нет. А этот — красавец, и тетки, выгуливающие детей в Долине Роз, где мы с Матвеем, кажется, прописались, говорят, хихикая:
— Главное, берегите ему писю! Такой красавчик растет!
С писей тоже все ок, ухмыляюсь я. Папа не подкачал. В общем, Матвей красивый не потому, что мне так хочется — я никогда не выдавал иллюзии за действительность, когда дело касается других, — а просто потому, что он красив. При этом удивительно похож на меня. Как Христос на Богородицу.
Я не жалею денег на врачей, жратву и вообще на него. Удивительно: раньше я был скуповат. Меня с самого начала предупредили, что дети на искусственном вскармливании могут жиреть, поэтому мы бегаем, прыгаем, не вылезаем из бассейна, катаемся на всем, у чего есть колеса, и ведем активный образ жизни. Матвей выглядит маленьким пузатым Аполлоном, но животик, как объяснили мне в поликлинике, торчит у всех детей.
5
Влияние бабушек. Не знаю, кто из старух расстарался насчет «мамы», но эффект ими достигнут прямо обратный: во-первых, у меня из-за этого от женщин отбоя нет, во-вторых, посиделки с бабушками мы на этом заканчиваем. Я не желаю, чтобы какая-то старая проблядь напоминала ребенку о том, что он сирота. То есть наполовину сирота, но, учитывая то, какой у него папаша, Матвей сирота полный. И я не желаю, чтобы на этом акцентировали внимание его ополоумевшие бабки. Ясно вам, мать вашу, тпруапы?!