— Нет, — сказал он, — не той. Немцам, Кузин, немцам! Эркварт четыре года в России, и все четыре года он тайный агент германского генерального штаба. Тоже своего рода палка о двух концах… Англичанам это не известно… Ныне знает это Всероссийская чрезвычайная комиссия, призванная охранять революцию.
А. Марченко
В ГРОЗУ
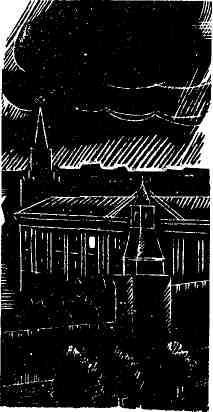
Гроза, бушевавшая над городом весь день и весь вечер, приутихла, отступила в подмосковные леса, напоминая о себе лишь дальним озлобленным громыханьем.
Дзержинский остался наедине со своими мыслями. Не каждая ночь была столь щедрой — большинство их было несоизмеримо беспокойнее дней, — но если выдавалась такая, как эта, Дзержинский заставлял ее работать на себя.
Он открыл боковой ящик стола и извлек оттуда стопку газет. Почти в каждой газете была статья или речь Ленина.
Среди них была статья, которую Феликс Эдмундович перечитывал не один раз. И не только потому, что она говорила о самом насущном и животрепещущем — о главных задачах текущего момента, но и потому, что была предельно созвучна с настроением его души, вызывала жажду действия.
Дзержинский знал, что Владимир Ильич писал эту статью в поезде, в ночь на 11 марта, когда правительство переезжало из Петрограда в Москву.
Дзержинский представил себе и эту ночь, и этот поезд, и глухие леса по обе стороны полотна, спящие в морозном дыхании снегов, и подслеповатые огоньки на редких станциях, и часовых в тамбурах, и маленькое купе, в котором бодрствовал Ильич.
Там, где в звенящей мгле мчался поезд, и дальше — на многие сотни и тысячи верст окрест — стояли безжизненно застывшие корпуса фабрик и заводов, чернела земля свежевырытых окопов, к которым стекались отряды красногвардейцев, мерзли в очередях голодные, измученные люди.
В окне, возле которого, примостившись у вагонного столика, писал Ильич, чудилось, мелькали лица людей — и злобные, и восторженные, и хмурые, и покаянные, и полные веры, и пышущие ненавистью.
А Ленин, ни на миг не отрываясь от рукописи, казалось, видел и эти лица, и лица тех, кто был в глубинах России, слышал их голоса, и это укрепляло в нем мудрую веру в силу народа.
Поезд стучал колесами на стыках, рвался вперед. Россия, еще не знавшая этих строк Ленина, уже пробуждалась, чтобы услышать их и ответить на них трудом и мужеством. Пробуждались и враги, чтобы снова броситься на штурм Республики. Пробуждались и те, кто в страхе и панике забился в скрытую от порыва ветра конуру, кто пытался отмахнуться от слишком горькой и страшной подчас действительности, кто укрылся под сенью красивой и звонкой фразы.
Пробуждалась Россия с верой в свой завтрашний день. И эту веру, как кремень искру, высекали в сердцах людей могучая воля и мысль Ленина…
Дзержинский с трудом оторвался от статьи. Он чувствовал себя обновленным, снова готовым без уныния и грусти стоять на боевом посту, еще более воодушевленный верой Ленина. «Да-да, — думал он, — это та самая вера, та самая… Песнь жизни. Нет, это не статья, это поэма, это торжествующий и победный гимн. Нужно иметь голову мудреца и душу поэта, чтобы так написать. Чтобы так вдохновлять…»
Дзержинский настолько ушел в мир страстей и тревог, в мир своих мечтаний и надежд, что не сразу расслышал телефонный звонок.
Он снял трубку и сразу же узнал голос Ленина:
— Феликс Эдмундович, здравствуйте.
— Добрый вечер, Владимир Ильич.
— Вечер? — рассмеялся Ленин. — А я-то по наивности своей думал, что уже ночь.
— В самом деле, — сказал Дзержинский, скосив глаза на часы.
— Вы совсем не бережете себя, Феликс Эдмундович! — воскликнул Ленин, но в его темпераментной интонации не чувствовалось гнева. — Или вы ждете специального решения? Вот погодите, я натравлю на вас Якова Михайловича, и уж тогда пощады не просите.
— Но ведь и вы, Владимир Ильич… — виновато начал Дзержинский.
— Ну, это уже бумеранг, — пытаясь говорить сердито, повысил голос Ленин.
— Мой дом здесь, — твердо произнес Дзержинский. — Лубянка, одиннадцать.
Ленин молчал.
— Кстати, — снова заговорил он, — какие вести из Швейцарии? Софья Сигизмундовна здорова?
— Здорова, спасибо, Владимир Ильич.
— И Ясик?
— И Ясик.
То, что Ленин, спросил о семье, растрогало Дзержинского. Он любил свою жену Зосю той светлой, мужественной и крепкой любовью профессионального революционера, когда чисто человеческое, природой данное чувство любви сливается с едиными взглядами на жизнь, с идеалами, которым поклоняются оба любящих. И особенно растрогало Дзержинского то, что Ленин не забыл о его сыне Ясике.
Дзержинский испытывал к Ясику трепетное чувство любви и не только потому, что Ясик родился в тюрьме и что он был единственным ребенком в семье, но главное потому, что Дзержинский вообще любил детей, видел в них тех, кто продолжит борьбу.
Сейчас, когда Ленин спросил о Ясике, Дзержинский почувствовал в его словах не просто дань традиционной, и общепринятой вежливости, а вопрос человека, который хотя и не имеет своих детей, глубоко понимает, как они дороги, и любит их так же, как будто бы это были его собственные дети. И это еще более усилило в Дзержинском то чувство глубокого и нерасторжимого родства с Лениным, которое всегда жило в его душе.
— А не приходила ли вам в голову мысль повидаться с семьей? — спросил вдруг Ленин, и Дзержинский не сразу понял, говорит ли он серьезно или просто шутит. — Что же вы молчите?
— Теперь? — спросил Дзержинский. — Это невозможно.
— Это вы себя так настроили, хотя и понимаете, что ничего невозможного нет. Конечно, не сейчас, не вдруг, но в нынешнем году вам надо бы съездить.
— Хорошо, Владимир Ильич, но я поеду лишь тогда, когда будет хоть какой-то просвет.
— Хитрец! — засмеялся Ленин. — Прекрасно понимает, что просвета не будет. Вы заметили, Феликс Эдмундович, какая сегодня гроза над Москвой?
— Да, Владимир Ильич, давно не видел такой грозы.
— И, представьте, глядя на это небесное столпотворение, я даже замечтался о том времени, когда люди смогут обуздать эту дикую энергию и бога разрушения заставят быть богом созидания. Поймать молнию, как это дьявольски заманчиво, Феликс Эдмундович! Заставить ее работать, а не куролесить в небе.
— Признаться, я думал о другом, — сказал Дзержинский. — Эти молнии, как стрелы врагов.
— Узнаю пролетарского якобинца, — с улыбкой произнес Ленин. — Кстати, о стрелах врагов я тоже подумывал. Разговор с вами у меня, как вы помните, намечен на послезавтра. А вот гроза надоумила — решил позвонить. Не ошибся?
— Нет, Владимир Ильич. Обстановка такая, что не до сна.
— А знаете, я тоже с вами пооткровенничаю: и мне не спится. И коль уж такое совпадение, и коль мы с вами такие ненормальные люди, приезжайте-ка прямо сейчас, а?
— Хорошо, — обрадованно сказал Дзержинский, — выезжаю немедленно.
— Впрочем, гляньте-ка в окно. Видите?
— Вижу, — ответил Дзержинский. — Гроза возвращается.
— И не ослабла, напротив, кажется, стала еще злей.
— Владимир Ильич, а помните: «Будет буря, мы поспорим…» Это же ваше любимое…
— Э, батенька, вы снова бьете меня моим же оружием? Тогда сдаюсь. Жду.
Дзержинский повесил трубку, бережно сложил газеты, убрал их на прежнее место и вызвал машину.
Спустя пять минут автомобиль с выключенными фарами вырвался к Лубянской площади. Молнии озаряли мчавшуюся по безлюдным улицам машину.
Автомобиль миновал Манеж и остановился у Троицких ворот. Дождь ручьями стекал с высокой стены.
— Кто едет? — спросил часовой в мокром капюшоне, плотно надвинутом на голову.
— Дзержинский, — сказал Феликс Эдмундович, протягивая пропуск.
Часовой взял под козырек. Машина въехала в Кремль.
Казалось, все молнии, что теперь беспрестанно, будто одна от другой, рождались в небе, облюбовали себе мишенью кремлевский холм. Земля вздрагивала от раскатов грома.