Опять выиграл.
— Двести сорок на двести на сорок?
— Не много ли будет? — говорю.
Молчит. Стали играть: опять моя партия.
— Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят?
Я говорю:
— Что ж, сударь, мне вас обижать. Сто-то рубликов пожалуйте; а то пусть так будут.
Так он как крикнет! А ведь какой тихий был.
— Я, — говорит, — тебя исколочу. Играй или не играй.
Ну, вижу, делать нечего.
— Триста восемьдесят, — говорю, — извольте.
Известно, хотел проиграть.
Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было, у меня тридцать шесть. Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков, а мой — на перекате стоял.
Ударил я так, чтоб выскочил шар. Не тут-то было, он дуплетом и упади. Опять моя партия.
— Послушай, — говорит, — Петр (Петрушкой не назвал), я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить.
А сам весь кра-асный стал, дрожит ажно голос у него.
— Хорошо, — говорю, — сударь.
Да и поставил кий. Он походил, походил, пот так с него и льет.
— Петр, — говорит, — давай на все.
А сам чуть не плачет.
Я говорю:
— Что, сударь, играть!
— Ну, давай, пожалуйста.
И сам кий мне подает. Я взял кий да шары на бильярд так шваркнул, что на пол полетели: известно, нельзя не пофорсить; говорю:
— Давай, сударь.
А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе: «Не получить мне семисот рублей; всё равно проиграю». Стал нарочно играть. Так что же?
— Зачем, — говорит, — нарочно дурно играешь?
А у самого руки дрожат; а как шар к лузе бежит, так пальцы растаращит, рот скривит да всё к лузе и головой-то и руками тянет. Уж я говорю:
— Этим не поможешь, сударь.
Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю:
— Сто восемьдесят рубликов за вами будет да полтораста партий; а я, мол, ужинать пойду.
Поставил кий и ушел.
Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю: что, мол, из него будет? Так что ж? Походит, походит — чай думает: никто на него не глядит — да за волосы себя как дернет, и опять ходит, бормочет всё что-то, да опять как дернет.
_____________
После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел.
Увидал его князь:
— Пойдем, — говорит, — сыграем.
— Нет, — говорит, — я больше играть не буду.
— Да полно! пойдем.
— Нет, — говорит, — не пойду. Тебе, — говорит, — добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет.
Так и не ходил дней с десять еще. А потом на праздниках как-то заехал, во фраке, видно в гостях был, и целый день пробыл: всё играл; на другой день приехал, на третий... Пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так — нет, — говорит, — с тобой играть не стану. А сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне через месяц: получишь.
Хорошо. Пришел к нему через месяц.
— Ей-Богу, — говорит, — нет, а в четверг приди.
Пришел я в четверг. Славную такую квартерку занимал.
— Что, — говорю,— дома?
— Почивает, — говорят.
Хорошо, подожду.
Камердин у него из своих был — старичок такой седенький, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним.
— Что, — говорит, — мы тут живем с барином! Совсем замотались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали: будем как при покойнике барине, царство небесное, по князьям, по графам да по генералам ездить; думали: возьмем себе какую из графинь кралю, с приданым, да и заживем по-дворянски; а выходит на поверку, что мы только по трахтирам бегаем — совсем плохо! Княгиня-то Ртищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хресный. Что ж? только на Рождество был раз, да и носу не кажет. Уж ихние люди и то смеются мне: что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему:
— Что, сударь, к тетеньке не изволите ездить? Они скучают, что вас давно не видали.
— Скучно, — говорит, — там, Демьяныч!
Поди ты! только и веселья нашел, что в трахтире. Хоть бы служил что ли, а то нет: занялся картами да прочим, а уж евти дела никогда к добру не поведут... Э-эх! пропадаем мы, так, ни за грош пропадаем!.. У нас от барыни-покойницы, царство небесное, богатейшее именье осталось: тысяча душ слишком, тысяч на триста лесу было. Всё заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и всё нет ничего. Без господина, известно, управляющий сам больше господина... дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что? набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. Намедни пришли два мужичка, жалобы принесли от всей вотчины.
— Разорил, — говорят, — в конец мужиков.
Что ж? прочитал жалобы, дал по десяти рублей мужичкам. — Я, — говорит, — сам скоро буду. Получу деньги, — говорит, — расплачусь, тогда уеду.
А где расплатиться, когда мы всё долги делаем! Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили; а теперь в доме рубля серебром нету! А всё от добродетели своей. Уж такой простой барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так вот ни за что пропадает.
И сам чуть не плачет, старик-то. Такой старик смешной.
Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня.
— Не прислали мне, — говорит, — денег, только я виноват. Затвори, — говорит, — дверь.
Я затворил.
— Вот, — говорит, — возьми часы или булавку брильянтовую и заложи их. Тебе, — говорит, — за них больше ста восьмидесяти рублей дадут, а когда я получу деньги, то выкуплю, — говорит.
— Что ж, — я говорю, — сударь, коли денег у вас нет, нечего делать: пожалуйте хоть часы. Я для вас могу уважить.
А сам вижу, что часы рублей триста стоят.
Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес.
— Восемьдесят, — говорю, — рублей за вами будут; а часы сами извольте выкупить.
Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось.
Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были, только всё вместе с князем езжали. Или с Федоткой наверх пойдут играть. И тоже какие-то у них втроем мудреные счеты были: тот тому дает, тот тому дает; а кто кому должен, не разберешь никак.
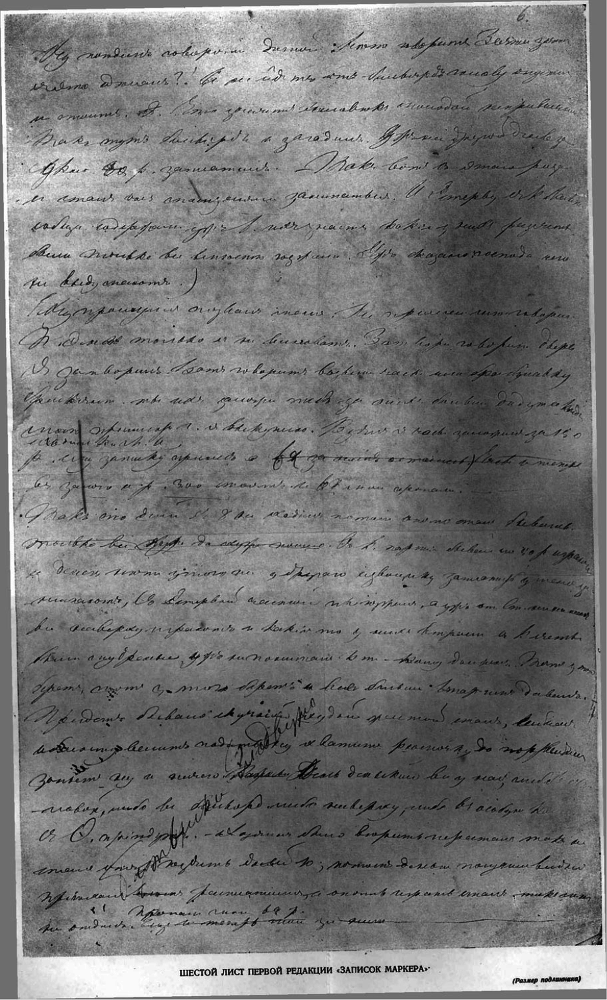
И бывал он таким манером у нас два года, почитай, что каждый день, только вид уж свой потерял: бойкой стал и другой раз до того доходил, что у меня по целковому занимал извозчику отдать; а по сту рублей с князем партию играли.
Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, абсинту сейчас рюмочку велит подать, канапе закусит, да портвейном запьет; ну, и повеселей как будто.
Приезжает раз перед обедом, на маслянице дело было, и стал с каким-то гусаром играть.
— Хотите, — говорит, — заинтересовать партию?
— Извольте, — говорит. — На что?
— Бутылку Клодвужо, хотите?
— Идет.
Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:
— Simon! бутылку Клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.
Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.
— Что ж, говорит, вино?
Simon побежал, приносит жаркое.
— Подавай же вино, — говорит.
Simon молчит.
— Что ты с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?
Побежал Simon.
— Хозяин, — говорит, — вас просит.
Покраснел весь, выскочил из-за стола.
— Что, — говорит, — ему надо?
А хозяин стоит у двери.
— Я, — говорит, — не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.
— Да я, — говорит, — вам сказал, что я в первых числах отдам.
— Как вам угодно, — говорит, — будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, — говорит, — десятки тысяч в долгах пропадают.
— Ну, полно, моншер, — говорит, — уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.