— Чего тебе надо? — с видимым испугом спросила Адела.
— Прошу прощения, ваша милость. Я пришла за доктором. — В темноте негритянка не могла видеть сеньора Матеу, которого к тому же заслоняли широкие юбки стоявших на террасе девушек.
— А ты… кто?
— Я — сиделка в бараке для больных, покорная слуга вашей милости.
— Сиделка? — удивленно переспросила Адела.
— Да, нинья, я сиделка Мария-де-Регла. А вы, ваша милость, молодая госпожа Аделита?
— Ты угадала, она самая.
— Ах! — воскликнула негритянка, слегка пожимая ножки Аделы — до рук она не могла дотянуться. — Мне как будто сердце подсказало. Я вашу милость вчера еще видела, как вы проходили по двору, я на вас в окошко больничного барака смотрела, только никак не могла угадать, которая будете вы, а которая — нинья Кармен. Да и как же выросли вы, доченька моя милая! Вас и не узнать! А какой красавицей стали, матерь божья!
— «Мне сердце подсказало»! — передразнила ее Адела. — «Доченька моя милая»! «Красавица»! Но если ты и вправду так меня любишь и еще не забыла, что была моей кормилицей, почему же ты не пришла меня проведать? Я ведь передавала тебе с Долорес, что приеду. Зачем же ты не вышла ко мне из барака? Я на тебя очень рассердилась.
— Ах, нинья Аделита! — воскликнула негритянка. — Не говорите так, мне это слышать — хуже смерти… Ведь вы не одни шли.
— Ну и что же? Я шла с мамой и с Кармен, и, кроме жены Мойи и его свояченицы Панчиты, с нами никого не было.
— То-то и оно, доченька, то-то и оно, родная!
— Да объясни же, в чем дело?
— Не могу я вам этого сейчас объяснить, нинья Аделита.
— Вот как? А ты подойдешь к маме попросить благословения?
— Нельзя мне, доченька, Я бы всей душой, об этом только и мечтаю, уж собралась было… Как госпожа из Гаваны приехали, ну, думаю, побегу сейчас, брошусь им в ноги…
— Так почему же ты этого не сделала? Или тебя не пустили?
— Не пустили, доченька. Госпожа, матушка ваша, не пустили.
— Мама? Не может этого быть. Ты просто ошиблась или тебе пригрезилось.
— Не ошиблась я и не пригрезилось мне, милая моя нинья Аделита. Ах, коли бы мне это пригрезилось! Госпожа даже на порог пускать меня не велели, чтобы и духу моего в этом доме не было.
— Как же я об этом ничего не знаю? Полно! Кто наговорил тебе такого вздору?
— Это не вздор, нинья Аделита. Мне это Долорес передала — она слышала, как госпожа говорили про меня с вашим батюшкой.
— Вот видишь — Долорес попросту не поняла, о чем был разговор. Мама и не думала на тебя сердиться. А если ты не веришь, я сейчас пойду и узнаю.
— Не надо! Ради бога, не надо! — испуганно взмолилась невольница, удерживая девушку за край платья. — Сердится на меня госпожа или нет, но лучше будет мне им теперь на глаза не показываться. А доктор здесь?
— Хорошо, мы поговорим с тобой потом, наедине. Я придумаю, как это устроить, и скажу Долорес, она тебе передаст. А зачем тебе доктор?
— Да вот привели из лесу одного нашего чернявого. Собаки его покусали.
— Покусали собаки? — переспросила Адела. — Боже мой, там, верно, стряслось что-то серьезное, раз уж за доктором посылают. Видно, они его чуть не до смерти загрызли. Да, да. Эти собаки такие злые, прямо как звери какие-нибудь. Боже мой, какой ужас! Матеу, — добавила она, повышая голос, — вас тут спрашивают.
Странные, очень странные вещи стали открываться Исабели с тех пор, как она ближе познакомилась с семьей владельцев прославленного инхенио Ла-Тинаха, где ее принимали с таким радушием и сердечностью. Охваченная живейшим участием к судьбе невольницы, некогда искормившей своею грудью ее любимую подругу, а ныне изгнанной из господского дома, потрясенная разговором о негре, которого загрызли злые собаки, она, не верившая доселе в возможность подобных жестокостей, не смогла скрыть от Леонардо того, как неприятно все это ее поразило и как глубоко она была взволнована. Заметив необычное состояние своей приятельницы, Леонардо спросил ее:
— Что с тобой? Тебя словно подменили.
— Да нет, ничего. Голова болит, — отвечала Исабель.
— Мне показалось, — продолжал Леонардо, — что тебя огорчила история с этим раненым негром. Есть от чего огорчаться! Бьюсь об заклад, что там ничего серьезного нет — так, пустяки какие-нибудь, две-три царапины. Если бы ты знала эту сиделку, ты беспокоилась бы не больше, чем я. Она вечно поднимает переполох и всегда попусту. Мама ее за это терпеть не может. Да и вообще не всему надо верить, что негры говорят. Они ведь не могут без того, чтобы не присочинить и не преувеличить.
— Что там такое, Адела? — спросила донья Роса, услышав со своего места, как дочь ее окликнула доктора Матеу.
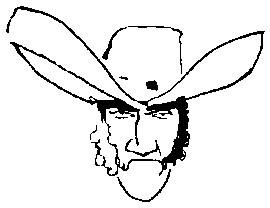
Сиделка тотчас же исчезла, а ее бывшая питомица ничего не успела ответить матери, так как в эту минуту к портику, предшествуемый двумя огромными бульдогами, подъехал верхом на лошади управляющий, чтобы раскатистым своим басом доложить хозяину о происшествиях, случившихся в поместье.
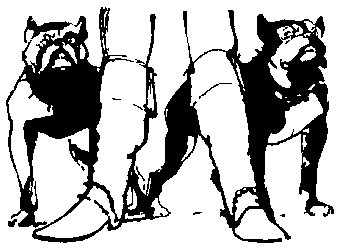
То был человек высокого роста, сухопарый, но крепкого сложении, с очень смуглым лицом, курчавыми волосами и густыми бакенбардами, покрывавшими щеки его до самых уголков рта, отчего рот казался меньше, чем был на самом деле. Неотъемлемую деталь внешности управляющего составляла широкополая шляпа, с которой он не расставался ни в поле, ни у себя дома и которую не снимал ни днем, ни даже ночью, потому что нередко служила она ему и ночным колпаком. Однако перед доном Кандидо управляющий снял ее, и тогда обнаружилось, что лоб у него такого же цвета, как у всех белых людей, в противоположность остальной части лица и рукам, которые под действием солнца так потемнели, что всякий принял бы его за мулата. Управляющий весь был обвешан оружием, что называется, вооружен до зубов. На портупее болтался у него мачете, а из-за пояса с одной стороны торчал серебряный эфес кинжала (возможно, лишь блестевший наподобие серебряного), а с другой — тяжелая рукоять толстого бича, вырезанная из узловатой ветви дикого апельсинового дерева и служившая управляющему чем-то вроде палицы, то есть оружия не колющего и не режущего, но от этого ничуть не менее грозного.
— Поздравляю вас, сеньор дон Кандидо, и всех ваших гостей с наступающим светлым праздником. Я пришел доложить вам, что привели Педро-бриче. Правда, собаки его маленько потрепали. Не давался он — пришлось собак спустить.
— Кто его поймал? — спросил хозяин, которого это сообщение, видимо, нисколько не растревожило.
— Отряд дона Франсиско Эстевеса. Они посланы ловить беглых негров.
— А где его поймали?
— В тростнике, на плантациях инхенио Ла-Бегонья, почти у самых гор.
— Он был один? Где его товарищи?
— Про них ничего не известно, сеньор дон Кандидо. Педро их не выдает, молчит как убитый. А я так думаю: спустить с него шкуру — заговорит. Я и пришел к вам, сеньор дон Кандидо, узнать, какое ваше насчет него будет распоряжение… С таким разбойником…
— Куда вы его поместили, дон Либорио? — спросил, помедлив, дон Кандидо.
— В барак для больных.
— Разве раны его так серьезны?
— Не в том дело, сеньор дон Кандидо. Это я для надежности, чтоб не утек. Пораненный он, заковать его — несподручно, я и посадил его в барак, а ноги в колодки. Но только такое у меня мнение — задумал он что-то худое. Глазищи у него — красней помидора, до того кровью налиты. А уж это я знаю: как станут у негра такие глаза, беспременно он пакость какую-нибудь в мыслях держит. Верьте слову, сеньор дон Кандидо, от этого Педро любого злодейства ждать можно. Стал я ему ноги в колодки забивать, так ведь он что мне сказал: «Человек, говорит, умирает только один раз», и еще добавил — надоело, мол, ему спину гнуть на хозяина. Это нужно злодеем быть, чтобы так-то сказать! Сами знаете, сеньор дон Кандидо: заговорил негр таким манером — стало быть, накатила на него блажь, в Гвинею приспичило, как изволит выражаться куманек Мойя, мое ему почтение. А тут еще вот какая у них мечта: сунь, дескать, голову в петлю — и готово, отправишься прямиком к себе домой, в Африку.