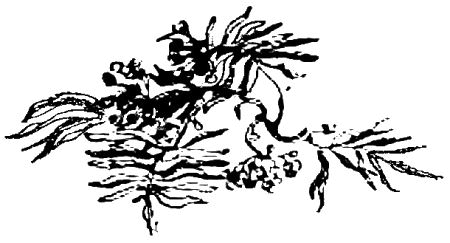Едва оказался он у хаты Апанаса Дёжки, у ворот, которые горбоносый, заросший сивой щетиной и с такими же сивыми волосами на голове Апанас уже закрывал, грудью напирая на створ, то и крикнул изменённым, не своим, грубым голосом мужчины:
— Стойте, дядька Апанас! Это не ваши коровы, а тех людей, которых спалили. Не ваши и не наши. А вы… а вы сразу двух за рога… Стыдно, дядька Апанас! Гоните, дядька Апанас, одну до нашего двора. Ну!
Потом, вспоминая это, Витя и сам будет поражаться пришедшему в эти мгновения мужеству, непривычной грубости в голосе, озлоблению своему, а пока он был наместником отца и потому командовал, приказывал и даже руку в карман для смелости сунул и сжал там тяжёлую обойму.
Дядька же Апанас, ошеломлённый дерзостью его, по-своему, как угрозу, воспринял тот быстрый жест, когда Витя сунул в карман руку, и, уже не отводя пугливо-бешеного взгляда от его сунутой в карман руки, Апанас как будто вздрогнул, как будто распахнуть на груди свой кожух захотел и закричал надсадно, по-бабьи:
— Стреляй, сморкач, стреляй! Кожны сморкач з ружжом, кожны забить хочет… Стреляй, Параскин хлопец, стреляй!
Обойма, которую Витя сжимал в кармане, берегла его, как настоящее оружие, потому что этот старый, но ещё здоровый, сильный Апанас мог бы ударить натруженной, тяжкой рукой, мог бы толкнуть, швырнуть его наземь. И Витя, не вынимая руки из кармана, напряжённо глядел на мятущегося человека, потом всё тем же голосом мужчины, командира потребовал:
— Гоните одну до нашего двора. Ну!
— А лихо на мою голову! — пронзительно закричал Апанас, в возбуждении стал распахивать, толкать руками как бы неподдающиеся ему ворота. — Стреляй и бери! Бери, Параскин хлопец! Бери, злыдень!
— Злыдень — вы, дядька Апанас! — бросил Витя с нескрываемым гневом, даже скрипнув зубами от обиды и гнева. — Это вы злыдень! Вы всю жизнь как волк… Всю жизнь один, без людей, как волк! И теперь двух коров за рога… А мы без кормилицы, наш батька на фронте воюет. А може, и косточки уже парит в земле… — вспомнил он мамины слова, такие горестные, такие безнадёжные, жалобные, что не мог сдержаться и, отвернувшись, почувствовал себя прежним, слабым, никаким не командиром, не защитником семьи, уткнулся в рукав свитки с тёплыми и слепыми от навернувшихся слёз глазами.
И тишина стояла на дворе, не кричал больше взлаивающим голосом Апанас Дёжка, пока Витя, уткнувшись лицом в рукав, пытался перебороть слабость.
Потом он отнял лицо, чуть покрасневшее в эту минуту внезапной слабости своей, и спокойно, отчуждённо повелел:
— Гоните одну до нашего двора, дядька Апанас.
И даже не стал заходить во двор, лишь окинул всё тем же отчуждённым взглядом прибранный двор с корытами у хлева, с деревянными лопатами в углу, повернулся и шагнул прочь, почти наверняка зная, что дядька Апанас побоится этого оружия, этой обоймы, всё ещё оберегаемой от его глаза, и повинуется ему.
— Бери, бери, сморкач, — уже глуше, без прежней ярости забубнил Апанас, выгоняя из ворот корову и сильно шлёпая заскорузлой ладонью по её коричневому, почти глинистого цвета боку. — У тебя ружжо. Ну и бери!
Витя посторонился, открывая путь к своей хате, взглядом насупленного человека повелел дядьке Апанасу не отставать от коровы, и тот, матюкаясь и бормоча одни и те же бедные слова, погнал скотину мимо верб, мимо всё ещё зияющих провалом чужих дворов, куда скотина норовила всякий раз свернуть, и как только Апанас, невольный этот пастух, с понуканием перенимал корову, бил её ладонью по кострецу, сплёвывал и оглядывался во зле, Витя приостанавливался, напрягал руку в кармане, как будто предупреждая пастуха.
И тогда Апанас подгонял скотину и ругал её на всю деревню:
— Пойшла, пойшла, яловка! Пошла, чтоб ты сдохла!
Уже недалеко была Витина хата, уже своею, своею стала эта безымянная ярко-глинистая корова — всё-таки нет, не стала она своею, удалось её загнать в распахнутые ворота и назвать как-нибудь — Красулей или Рыжей.
Другие распахнутые ворота поманили безымянную эту корову, и не успели Апанас и Витя преградить ей дорогу, как она уже вбежала с трубным мычанием во двор старухи Ульяны, отозвалась на кличку: «Манька! Манька!» — и стала лизать старухины руки и подол.
Витя потрясённо глядел, как старая, полуслепая, болезненная Ульяна всё восклицает: «Манька! Манька!» — и как эта Манька, эта безымянная, чужая корова, признала в старухе хозяйку, взмыкивает утробно, просит еды в ответ на ласку шершавого своего языка. Чужая, чужая это была корова, вовсе не старухи Ульяны, потому что у старухи Ульяны была другая, пёстрая; чужая, чужая эта корова, ставшая на короткий миг своею, своею и вот оказавшаяся вновь чужой. Чужая, чужая теперь эта корова, безымянная, отозвавшаяся на первую кличку, совсем чужая, потому что Витя почувствовал сейчас, какое он зло может совершить, если ступит во двор и выгонит приблудившуюся скотину. Обозналась безымянная корова, обозналась старуха Ульяна — и что же поделать? Там, у ворот Апанаса Дёжки, он имел право на справедливое требование, а теперь не имеет никакого права творить зло.
— Ульяна, послухай, это же Параскин хлопец гнал корову. У них двое малых. Думаю, нехай Параскин хлопец берёт корову, — подал голос Апанас и устремился было во двор.
— Стойте! — повелительно крикнул Витя, вновь напрягая руку в кармане. — Стойте, говорю вам! Это не наша корова. Это тётки Ульяны…
— Не ваша? — метнул озлобленный, проясневший от ярости взгляд Ананас, — А хто застрелить меня хотел за эту скотину? У кого ружжо, сморкач?
— Это не наша корова, — покачал Витя головой, чувствуя как бы усталость от долгого, заядлого спора, от борьбы с самим собой. — Видите? — И он показал взглядом, как обхаживает старуха приблудившуюся Маньку, как блестит, словно клеёнка, её одежда от коровьей ласки.
Снова было холодно на земле, уже октябрь, ранние заморозки, от инея заметен каждый прутик, каждая древесная заусеница на плетне, и холодно ногам, больно ступать окоченевшими ногами, но надо идти, надо уходить от чужого двора.
— Послухай, Параскин хлопец! Послухай! То ж дурная Ульяна, старая, дурная, помрёт скоро… — бил в спину хриплый, злой, неприятный голос, и по этому голосу, по сопению Витя определил, что Апанас Дёжка поспешает за ним вслед.
Но Витя и не думал останавливаться. Когда же он оказался в своём дворе, то словно бы споткнулся, увидев мать и Федю во дворе, в ожидании, в молчаливом ожидании, молении, может быть. Может, он и сказал бы им слова безнадёжности и досады, ранил бы и себя, и родных ещё больше, если бы тут же не появился у распахнутых ворот и Апанас Дёжка, который от бега дышал тяжело и который смотрел тяжело на мать, на Витю с Федей.
— А Витечка! — встрепенулась вдруг мать. — Это ж я твои бурочки нашла. Зараз надень!
И пока она метнулась в сенцы, пока вынесла бурки и, став на колени, потому что не могла наклониться, принялась жаркими, обжигающими руками обувать прямо здесь, на крыльце, неподатливые, одеревеневшие Витины ноги, — всё это время дядька Апанас не трогался с места, сопел от одышки, а потом опять стал кричать, ругаться, так что все трое в удивлении повернулись к нему.
— Сморкач! — кричал Апанас Дёжка. — У тебя ружжо! Иди и бери! Иди и бери последнюю корову! Иди и бери!