— Бессмертна только душа человеческая…
— А творения искусства? — возразил он.
— Но в них тоже выражена душа, — услышал он. Спорить было не о чем.
Потом он стал писать Нине и в ответ получал удивительно зрелые по мысли письма. Еще год назад она писала: «Если бы у вас был только один Пушкин, вы были бы все равно великой нацией».
А теперь он встретил ее — юную, смущенную и спокойно смелую в своей чистоте. Он про себя мгновенно окрестил ее «мадонной Мурильо».
В Эрмитаже, при самом входе в него, висит этот шедевр испанского живописца. Мурильо Бартоломео Эстеван рисовал свою мадонну-пастушку словно с Нины. Тот же спокойный взгляд миндалевидных глаз, те же плечи и шея.
Вся семья Чавчавадзе нравилась Грибоедову, особенно же отец Нины — обаятельный Александр Гарсеванович. Раненный под Лейпцигом, этот адъютант Барклая-де-Толли вошел в побежденный Париж и там награжден был золотой саблей — за храбрость. Тридцатидвухлетним полковником возвратился в Грузию, где вскоре был назначен командиром прославленного Нижегородского драгунского полка, расквартированного в урочище Караагач, неподалеку от Цинандали.
В ходе русско-персидской кампании Чавчавадзе, показав себя незаурядным военачальником, стал генералом и губернатором Армянской области. Но главная привлекательность Александра Гарсевановича состояла для Грибоедова в блестящем уме широко и вольно мыслящего человека. Страстный библиофил, он даже из Парижа привез редкие книги. Александр Гарсеванович изучал статистику, логику, физику, науки военные и политические. Он, как свой родной язык, знал персидский, немецкий, первым перевел на грузинский язык элегии и стансы Пушкина, «Альзиру» Вольтера, «Федру» Расина, стихи Саади и Гафиза. Мечтал познакомить русского читателя с «Витязем в тигровой шкуре».
Сам Чавчавадзе написал не одну песню, их распевала Грузия, не ведая об авторе: Александр Гарсеванович не печатал под своим именем ни строчки.
Грибоедова подкупало это редкостное сочетание в одном лице благородного, отважного воина с незаурядным, божьей милостью, поэтом.
В дом Чавчавадзе людей тянуло как магнитом. Однажды зашедший сюда человек на годы прикипал душой, становился своим.
Когда Александр Гарсеванович бывал в Тифлисе, дня не проходило, чтобы за обеденным столом Чавчавадзе не сидели двадцать-тридцать «случайно забредших», всякого разбора.
Лейб-гусары, чиновники, музыканты, жители гор. Особенно много людей молодых, а среди них — русских ссыльных и нессыльных, между собой называвших сиятельного князя Ивановичем.
К этому очагу, видно, тянуло потому, что возле него легко дышалось, было уютно, велись честные разговоры, высказывались независимые суждения. Это был Дом взаимной душевной приверженности. Даже в хлебосольной Грузии он поражал своей приветливостью и радушием.
Княгиня Соломэ Ивановна как-то сказала Грибоедову:
— Мы рады каждому порядочному человеку…
Нина унаследовала от отца не только внешность — матовый цвет лица, карие глаза, рослость, но и многое в самом характере.
Обычно девочка стоит ближе к матери, но озабоченность княгини Соломэ болезнями, истинными и мнимыми, изрядно отдаляла ее от детей. И хотя Александр Гарсеванович, отвлекаемый службой, нечасто бывал дома, духовно он, несомненно, оказывал на Нину огромное влияние, пожалуй, даже большее, чем Прасковья Николаевна.
…Грибоедов снял очки, и мир мгновенно стал похож на детский рисунок, побывавший под дождем. Александр Сергеевич растер пальцами вдавлинку у носа, неторопливо надел очки.
Очень захотелось сейчас же, немедля пойти к Ахвердовым.
Он подумал, что и сама Нина — Грузия, лучшая частица ее! Что в Петербурге, готовясь к свиданию с Грузией, он каждый раз вспоминал Нину…
Прежнее его — он теперь это ясно видел — было случайным, незрелым, меркло рядом с Ниной. Все мизерно: его водевильчики, интересы театральных кулис… Теперь надо круто поворотить свою жизнь. Заново преобразовать себя, покончить навсегда с обольщениями столицы, с ее угарным вихрем, праздной рассеянностью, ложным блеском, отстранить жизнь разбросанную и безалаберную.
Перед жестокостью императорской столицы и того спрута века покорности и страха, что только случайно не удушил его, надо подумать о верной гавани. Не для спасения от бурь, а для оттачивания кинжала.
И надо сказать Нине… признаться Нине…
Глава третья
Предложение
Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем.
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели — с благоговеньем
Вам нынче поклоняюсь я.
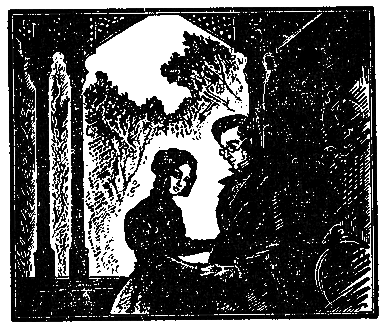
Грибоедов угодил к концу ахвердовского обеда: пили чай, а сладкоежка Нина добралась до своего любимого блюда — помидора с орехами и зернышками граната.
Все, кто был за столом, а за ним сидели, кроме Нины и Прасковьи Николаевны, гувернантка Надежда Афанасьевна, дети — все, кто был за столом, как всегда, очень обрадовались приходу Александра Сергеевича.
Он поцеловал руку Прасковье Николаевне, а она его — в темя, шутливо спросил у Надежды Афанасьевны по-французски: «Как живет ваш птичник?», растрепал курчавые волосы Давидчика, нажал пальцем кнопку носа Вареньки, подбросил чуть ли не до потолка подбежавшую к нему Дашеньку, и его охватило знакомое чувство, что вот он дома — в уюте, среди милых сердцу людей. Казалось, прочно угнездившееся в последние месяцы ощущение какой-то надвигавшейся беды, безысходности исчезло, уступая место светлой, благодарной радости. Отодвинулась прочь, как горный туман под лучами солнца, и тягостная мысль, что в Персию его отправили, по существу, в почетную ссылку, чтобы извести, как извели многих друзей его, брата любимого — Сашу Одоевского, как изводят всех своих недругов. Сейчас даже уверенность, что судьба железной рукой закинула его сюда и гонит дале, на погибель, в чужую, враждебную страну, перестала его тревожить. Рядом с дорогими ему людьми он действительно чувствовал себя защищенным, в укрытом пристанище.
Мысль, что приехал сюда противувольно, померкла, и ему стало казаться, что — нет, приехал по своей воле, это милостивая судьба привела его десять лет назад в Грузию, как и сейчас к Нине…
Он остановился перед Ниной не в силах отвести взгляд, Нина поднялась, здороваясь, протянула руку. Волна краски залила ее щеки, пробилась через их матовость. Глаза с поволокой, казалось, увлажнились от этой волны смущения, а длинные, словно бы даже синие ресницы с отгибами отбросили тень на щеки.
Бог мой, наивные люди называют его поэтом! Но он не нашел бы слов описать эти глаза. Сравнить их с темными таинственными озерами? С чистой водой в лучах зари? Сказать 6 бархатной мягкости их? О кротком мерцании? Но это все так беспомощно, истерто! Белки отливают синевой, а в распахнутой глубине — и ласковость, и загадочность…
— Александр Сергеевич, может быть, чаю? — радушно предложила Прасковья Николаевна и, словно прочитав желание Грибоедова, попросила: — Надежда Афанасьевна, вы займитесь с детьми на веранде.
Надежда Афанасьевна, с затянутой в рюмочку талией, смекнув, что требуется, повела детей из комнаты. Последним и неохотнее всех — он очень любил Грибоедова — уходил Давид. У него поверх темной расшитой курточки выпущен белый воротник, и это так не вязалось с царапинами и запекшимися ссадинами на коленках.
— Нина, налей гостю чаю! — сказала Прасковья Николаевна.
И пока Нина, уже зная вкус Александра Сергеевича, готовила чай, Александр Сергеевич продолжал неотрывно смотреть на нее, будто видел впервые.
Нина, как обычно, была в белом платье из прозрачной ткани на муаре. У каждой грузинки есть свой любимый цветок и цвет одежды. Цветком Нины был нарцисс.
Когда Грибоедов только вошел сюда и увидел Нину, то хотел пошутить, но деликатность остерегла его, подсказала, что шутливостью сейчас можно только еще более смутить Нину. Тогда он собрался сделать комплимент, но почувствовал, что и этого делать не следует. С отчаянием обнаружил Александр Сергеевич, что растерян мыслями, что утратил все слова, достойные ее, слова, с которыми можно было бы обратиться к Нине.