Паспорт Ломоносов получил, по-видимому, не сразу и с большим трудом, «не явным образом», а «посредством управляющего тогда в Холмогорах земские дела Ивана Васильевича Милюкова», и с этим паспортом, «выпросив у соседа своего Фомы Шубного китаечное полукафтанье и заимообразно три рубля денег, не сказав своим домашним, ушел в путь».
Эти материалы говорят лишь о том, что Ломоносов не ушел из дому очертя голову, что он осторожно обошел все юридические препятствия на своем пути. Он понимал, что в Москву нельзя прийти беспаспортным бродягой, — за это били кнутом. Он чувствовал, что уходит надолго, если не навсегда, а брал паспорт на зиму «к Москве» да на лето «к морю», куда он и без того хаживал с отцом. Замышляя необыкновенное, Ломоносов придавал делу видимость обычного.
И вряд ли он посвятил всех, кто ему помогал, в свои подлинные намерения. Меньше всего понимал его стремления отец. Ломоносов, вероятно, не раз пробовал отпроситься, падал в ноги, просил благословения, может быть, даже склонял отца пойти ему навстречу, но так ничего и не добился окончательно. Ибо иначе Ломоносов не нуждался бы в поддержке односельчан и посадских, принявших в нем такое деятельное участие, так что даже имена их сохранились в памяти через десятилетия. Мы знаем, что, собираясь в далекий путь, Ломоносов трезво запасся деньгами, которые ему поверил в долг его сосед. Вряд ли понадобились бы ему эти деньги, ежели бы его и впрямь снаряжал отец — «прожиточный» по тем временам человек, который не мог бы отпустить единственного сына в Москву, не снабдив его всем необходимым, если бы он отправлялся в дальнюю дорогу с его ведома. Наконец сам Ломоносов говорит о себе, что он ушел из дому в Спасские школы.
Мы не знаем, какие внешние препятствия и внутренние колебания пришлось преодолеть Ломоносову. Как бы заранее ни был им продуман план такого дела, самый последний шаг приходит как внезапность, как последнее бесповоротное решение. Две рубашки, две книги и волнение юности — это не придуманные детали.
Ломоносов не сразу добрался до Москвы. По пути он задержался ненадолго в Антониевом Сийском монастыре, где пономарствовал. Здесь он заложил мужику-емчанину (из Емец) полукафтанье и, наконец, «ушел оттоле в Москву», пробираясь с рыбными обозами.
Упрямо покачивали головами обындевевшие лошади. Проваливаясь в глубокий снег, шел краем дороги светлоглазый, большой и бесстрашный юноша с неукротимым и обветренным лицом.
Часть вторая
ПУТЬ К НАУКЕ
«Мой покоя дух не знает».
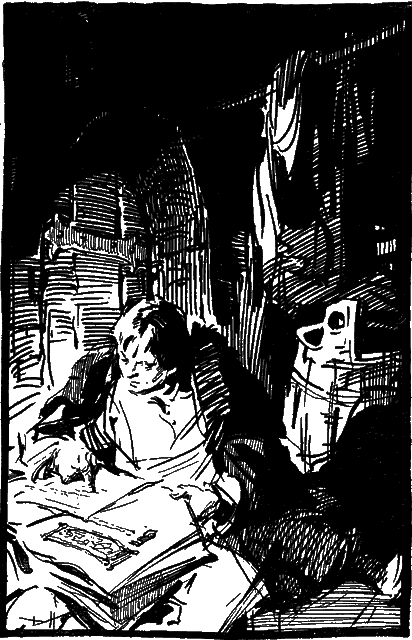
V. СПАССКИЕ ШКОЛЫ
«Не мало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели».
В Москве, в Китай-городе, на Никольской улице, стояло тяжелое, насупившееся здание, увенчанное или, скорее, придавленное церковью с небольшой колоколенкой — Заиконоспасский монастырь. Маленькие, почти квадратные окна врезаны в такие толстые стены, что, казалось, сквозь них все равно не проникал дневной свет. Здесь-то и расположилась Славяно-греко-латинская академия, а в просторечии «Спасские школы» — старейшее высшее учебное заведение Московского государства, основанное в 1685 году.
Жизнь не проходила мимо старых стен Заиконоспасского монастыря. Здесь жива была память о Петре. Спасские школы принимали деятельное участие во всех торжествах, которые устраивались в Москве в честь петровских побед.
Петр «шествовал» с войском, славными участниками своих дел, овеянными дымом прошедших сражений. Несли знамена, вели пленных и везли трофеи. Гремели трубы и фанфары. Раздавались пушечные салюты и громогласные «виват». Хоры певчих исполняли «многая лета», сливавшееся со звоном московских колоколов. Ученики академии, в белых стихарях, с венками на головах и ветвями в руках, провозглашали «осанна», пели торжественные «канты» и говорили поздравительные «орации».
По пути следования Петра воздвигали триумфальные ворота, арки и обелиски, украшенные множеством всевозможных «симболов» и «эмблем» и различными надписями на русском и латинском языках. На огромных транспарантах были изображены рыкающие львы, огнедышащие драконы, змии с отверстыми пастями, тритоны с трезубцами, причудливые мифологические образы, которые так нравились Петру.
Сам Петр обычно изображался в виде какого-либо героя античных сказаний, чаще всего «Российского Геркулеса».
Все эти аллегорические картины и надписи сочиняли в Московской академии.
Петр охотно посещал Заиконоспасский монастырь, бывал на диспутах и представлениях, давал различные поручения наставникам академии (чаще всего по переводу научных и технических книг на русский язык).
Петр обратил внимание на это учебное заведение и даже помышлял о преобразовании его в своего рода политехническую школу. Он прямо сказал патриарху Андриану, что школа эта царская, а не патриаршая и надобно, чтобы из нее выходили люди «во всякие потребы — в церковную службу и в гражданскую, воинствовати, знати строение и докторское врачевское искусство».
Но Спасские школы остались духовной школой и сохранили свой схоластический характер. Впрочем, они не были чужды умственному движению. Феофилакт Лопапинский, читавший в 1704 году в академии курс физики по Аристотелю, упоминал в своих лекциях и Декарта. Обращаясь к своим слушателям, он говорил: «Мы уважаем всех философов и преимущественно Аристотеля, однако, не утверждаясь на древних мнениях, но желая узнать чистую истину, не полагаемся ни на чьи слова; философу свойственно доверять больше разуму, чем авторитету… Ум был не у одного Платона или Аристотеля». Все это, однако, не снимало печати отсталости со Славяно-греко-латинской академии, и Аристотель не переставал в ней главенствовать и служить основой миро воззрения.
Академия делилась на восемь классов: четыре низших, которые назывались фара, инфима, грамматика, синтаксима, два средних — пиитика и риторика, и два высших — философия и богословие. В низших классах учили латыни, славянскому языку, нотному пению, преподавались начатки географии, истории и математики. В средних учили красноречию, ораторскому искусству и литературе. В высших классах, наряду с логикой и философией, слушатели получали скудные и старомодные сведения по психологии и естественным наукам, рассматриваемым попутно с физикой.
Число учеников в академии в среднем составляло около двухсот. Состав их был весьма пестрый. Тут можно было встретить и дворянских недорослей и молодых монахов, детей беднейшего приходского духовенства и детей посадских, стряпчих, солдат, мастеровых, типографских рабочих, новокрещенных татар, даже «богаделенных нищих».
Старший современник Ломоносова, знаток горного дела, географ, этнограф и историк, Василий Никитич Татищев оставил весьма пренебрежительный отзыв о Московской академии. По его словам, «язык латинский у них несовершен», классических авторов — Ливия, Цицерона, Тацита — не читают, «философы их куда лучше, как в лекарские, а по нужде аптекарские ученики годятся», «физика их состоит в одних званиях или именах, новой же и довольной, как Картезий, Малебранш и другие преизрядно изъяснили, не знают». «И тако в сем училище, — заключает Татищев, — не токмо шляхтичу, но и подлому научиться нечего, паче же что во оной больше подлости, то шляхтичу и учиться не безвредно».
Татищев требует введения широкого светского образования, но исключительно для дворян. Его раздражает не только система преподавания, но главным образом социальный состав Московской академии, где училось слишком много «подлости». Это повлияло и на всю оценку школы. При всей неудовлетворительности академии обучавшаяся там «подлость» выносила из нее куда больше, чем подозревал Татищев! «Шляхетское» же пренебрежение надолго затемнило роль академии в образовании русской демократической интеллигенции и демократических традиций русской науки!