Кроме этой надписи на табличке было множество тщательно, тонко вырезанных надписей на самом мраморном теле казака, но они были слишком мелкие – Дунаеву не под силу было прочесть их. Другое изваяние, тоже из чистого белого мрамора, похожего в сумерках на сало, изображало матроса в бушлате, напряженно всматривающегося в направлении Колодца.
Затем Дунаев увидел картину – огромную масляную живопись в широкой раме. Батальная сцена, точнее поле после боя. Бесчисленное множество павших. Их тела покрывали поле до самого горизонта. Трупы были изображены погруженными в смерзшуюся, словно бы схваченную неожиданным морозом слякоть и сверху присыпаны снежком, сгущающимся кое-где в довольно плотные сахарные наслоения. Над белизной этих пятен торчали посиневшие руки, ноги и обломки оружия. Это была вроде бы копия одной из известных картин Верещагина, посвященной русско-турецкой войне в Болгарии, битвам за Шипку-Шейново или Плевну. Однако здесь на этой картине имелись пририсованные подушечки, словно бы подложенные чьей-то неведомой заботливой рукой под голову каждого из убитых солдат. Некоторые из убитых также были прикрыты до подбородка одеяльцами в пододеяльниках. Это казалось странным: эти грязные трупные головы, присыпанные снегом, на фоне чистых белых подушек с кружавчиками по краям. Странно было наблюдать эти мириады разметавшихся, переплетенных тел в заиндевевших шинелях, возлежащих под белыми прямоугольниками чистеньких одеял, словно бы перенесенных сюда из спальни образцового пионерского лагеря. Это могло бы показаться нелепым и даже отвратительным, если бы в глубине этих «дополнений» не мерещилось бы пусть неуклюжее, но мудрое милосердие, еще раз повторяющее вечный шепот утешения: «Смерть – это сон, а спящему должно быть мягко и удобно».
«Видимо, это и есть «Комната великого отдыха», – решил Дунаев. – Значит, эта круглая черная дыра в центре, обрамленная низким мраморным парапетом, она и есть ИСКОМОЕ – драгоценный проход в Энизму».
Наверное, туда, в качестве высшей награды, сбрасывают тела героев, – неуверенно подумал Дунаев и стал осторожно пробираться вниз, к центру амфитеатра-воронки, постепенно скатываясь со ступеньки на ступеньку.
И вот он уперся круглым боком в низкий мраморный парапет и заглянул в Дыру. Колодец производил впечатление бездонного. Гладкие стены, облицованные мрамором, уходили вниз, в полную темноту. Оттуда не доносилось никаких звуков, разглядеть там также ничего не удавалось, кроме тьмы. Колодец выходил из макушки «подземной Матрешки», пронзал насквозь головы всех девяти «баб» и уходил вниз, в непостижимую глубину земли. Ничто не свидетельствовало о том, что внизу находится Энизма. Дунаев было засомневался, но в поле его зрения снова, откуда ни возьмись, появились две половинки яйца. Они несколько минут висели над колодцем, а затем стали медленно опускаться вниз, иногда останавливаясь и словно бы поджидая парторга. Когда они были уже на грани исчезновения, парторг увидел, что обе половинки соединились в одно яйцо, цельное и совершенно гладкое, без линии разреза, и в таком виде поплыли дальше вниз, во тьму.
«Надо прыгать, – подумал Дунаев. – Будь что будет. Или смерть, или ОНО, а может, и то и другое, вместе взятое».
Глава 29. Кащенко
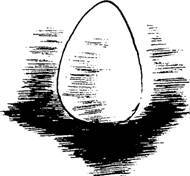
В этот момент чья-то рука легла на темя Дунаева.
– Эх, Яблочко, куда ты котисси? – раздался укоризненный голос Поручика. – Куда ж это ты, парторг, собрался? Когда б я не подоспел вовремя, глядишь, ты бы и скатился в матрешкину Черную Дыру. В пизду эту.
– Это не пизда. Там ведь, знаешь, проход в Энизму, – голос Дунаева прозвучал сухо из-за черствения. – Навоевался я, атаман. Хватит! Сил больше нету никаких. Других бойцов убивают хотя бы… И в Энизму сбрасывают с почетом, для Вечного Отдыха. А я что? Мыкаюсь по каким-то задворкам – ни войны настоящей, ни мира, ни гибели. Даже тело свое человеческое истратил. Пусть я уже не человек, но на каждое существо не бесконечно можно говно накладывать. Заебался я, Поручик. Слушался я тебя, был ты мне заместо отца… А теперь – прощай! Не поминай лихом. А в газете пускай напишут: дезертировал, мол, Дунаев. Дезертировал в Энизму. Прощай! – С этими словами парторг сделал попытку перевалиться через мраморный парапет и ухнуться в дыру. Однако рука Поручика все еще прочно лежала на темени парторга, прижимая его к полу и не давая сдвинуться с места. Сколько ни вертелся Дунаев вокруг своей оси – ничего не помогло.
– Как ты говоришь? В Энизму? – переспросил Поручик с любопытством. – Ну не знаю, что это значит, никогда такого слова не слыхивал. Но могу заверить, что здесь никакой «Энизмы» нет. Обычный мраморный колодец, вроде шахты или скважины, довольно глубокий. А на дне – просто грязь и темнота. И там ты желаешь валяться, постепенно превращаясь в хлебную труху? Веселый же ты парень, Дунай, вот что я тебе скажу.
Дунаев призадумался. Он не был уже таким горячим, как в начале бытования хлебом. И трезвые мысли, даже чересчур трезвые, роились в коридорчиках и лабиринтах его высыхающей внутренней плоти. В сущности, такой хлеб можно было смело выбросить, как негодный. Видимо, потому парторг и хотел выброситься, дезертировать, чувствуя свою непригодность, исчерпанность своей сокрушительной мощи. «Хуй его знает, а вдруг там в самом деле никакой Энизмы нет? С чего это я решил, что она должна быть именно там? Хотя… я ведь Поручику нужен, чтобы войну вести! Да только я, кажется, не гожусь для этого. Да он специально, может быть, меня на эту войну поставил, чтобы Советы ее проиграли! Нуда! А значит… значит, он и в самом деле…»
И тут парторг сделал последнюю попытку перепрыгнуть мраморный парапет. Но увы! Взглянув на парапет, он увидел, что тот растет ввысь прямо на глазах. В следующий момент парторг понял, что на деле его круглое тело стремительно уменьшается. Наверное, рука Поручика, лежащая на его темени, так на него действовала. Он приблизился в размерах к тому небольшому, величиной с кулак, участку плоти, который еще не успел зачерстветь. Вся его черствость исчезла. Он снова ощутил себя мягким, живым.
– Эй! Эй! Ты што, хуйнулся, еб твою мать! Совсем в булочку меня превратил!
Но Холеный не слушал этот влажный писк. Он оглянулся по сторонам, затем набрал воздуху и смачно, от всей души, плюнул в колодец. Затем он схватил Дунаева, запихал его за пазуху, во внутренний карман, и с громким хохотом взлетел к потолку. Поднялся дикий свист, похожий на посвист Соловья-Разбойника. Парторг тупо ворочался в кармане Холеного, среди каких-то бумажек, канцелярских скрепок, крошек и пуговиц. В конце концов его вынули на белый свет.