– Га… га… галь-ва-ни-за-ция трупа, – с трудом проскрипел один из них голосом заикающегося робота, указывая на Дунаева пальцем. Эта «шутка» вызвала у всех троих приступ неудержимого смеха. Чтобы так смеялись, парторг еще не видел. Он подумал, что так смеяться пристало бы только перевернутым насекомым, увеличенным до размеров стадиона и умирающим от щекотки вследствие спортивных соревнований, развернувшихся на их нежных брюшках.
Сидевший ближе всех, почти вплотную, с глазами как плошки, с крошечным бумажным лицом, на котором тушью были нарисованы щетинки, смеялся, не разжимая плотно сжатых губ, сохраняя полную неподвижность своего словно бы окаменевшего тела, одетого в пеструю рубашонку. Рядом сидел другой, голый по пояс, отдаленно напоминающий запорожского казака, постоянно ерзающий на месте и выплясывающий руками какой-то разухабистый кабацкий танец. Губами он постоянно выдувал что-то вроде трубы или раструба, глаза шаловливо бегали. Третий почти исчез в кресле от смеха, все лицо его покрылось мельчайшими морщинками, как на ссохшемся яблочке, черная бородка запрокинулась, улыбка растянулась до ушей, а руки с тонкими паучьими пальцами повисли в воздухе, словно сведенные в судороге.
В голове у парторга затрещало, запах одеколона и еще некий запах, напоминающий Паразита, но гораздо слаще, витали по комнате. Откуда-то шла странная, прерывающаяся и в то же время тягучая музыка, засасывающая, словно омут. В поисках источника звука Дунаев стал оглядываться. Постепенно он различил над собой, на стенах (кровать стояла в углу), небольшие картины. Одна изображала островок с высокими елями посредине кристального озера, окруженного прекрасными одинаковыми зданиями. Все было выписано в старинной манере, необычайно тщательно – и отражение хвойных деревьев в глубокой воде, и остроконечные горы, синеющие на заднем плане. Вторая картина была побольше, явно прошлого века, потемневшая масляная живопись, без рамы, повешенная слегка косо. Изображены были четыре утки, сидящие на бортиках большой чаши с водой.
Вглядываясь в эти картины, Дунаев заметил, что электрическое сияние и дрожь стали смягчаться и исчезать, уступая место бархатной и словно бы пористой полутьме. Она выступала из углов, сочилась из книжных шкафов, стлалась по покоробившимся старым обоям, гнездилась в большом пыльном абажуре с бахромой, который висел на потолке.
«Какая глубокая комната!» – подумал Дунаев. Ему показалось в этот момент, что эта комната находится где-то глубоко-глубоко под землей, под захороненными мертвецами, под склепами и шахтами, глубже всего, что есть на земле, как бы на дне мира.
Он взглянул на троих субъектов, засевших в креслах: «Кто же это такие? Неужели на этот раз такие вот враги? Или помощников таких Холеный снарядил?»
Но интуиция подсказывала, что это не враги и не помощники. «Так, нелюдь посторонняя, – догадался парторг. – Просто какая-то хуйня. Даже внимания на них обращать не надо. Важны не они – важна комната!» – последняя фраза прозвучала откровением.
Тем не менее он все-таки спросил их:
– Кто вы?
– Мы – интеллигентные люди в раю, – прозвучал ответ.
Глава 28. Москва
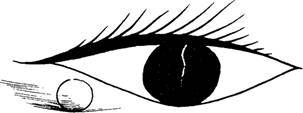
Сумеречное небо Подмосковья… После темных южных ночей небо здесь казалось светлым, красноватым с запада и зеленоватым с востока. Казалось, по нему гуляют разводы и волны, сталкиваясь и перемещаясь так, что над центром Москвы образовалась воронка, уходящая в небеса и переливающаяся, словно северное сияние. Внутри этого медленного смерча будто зарождалось что-то. Таким увидел небо Дунаев, очнувшись и вынырнув из Глубокой Комнаты. Он висел в воздухе, внизу пролегали заснеженные пустоши, овражки. Дунаев глянул в небеса, и его снова стало поднимать вверх, постепенно снося к северо-западу. «Сумеречный Смерч…» – подумалось парторгу. На западе он увидел Чайную Чашу, нечто вроде плоской чаши цвета крепкого чая. Далекие воздушные объекты напоминали чаинки в этой чаше, сложившейся из дыма и облаков и от пожаров войны принявшей такой необычный для неба цвет. Смерч и Чаша образовывали воздушные течения, которые цепляли друг друга, создавая Атмосферный Фронт. Попав в этот Фронт, парторг неожиданно принял в воздухе сидячее положение и как бы понесся на санках с высоченной горы. Внизу ему стала видна деревенька, близ которой, на заснеженных холмах, кипел бой. Шли немецкие танки, то и дело стреляя, распуская шлейфы снега и черного дыма. С советской стороны никаких танков не было, лишь горстка человеческих фигурок, прячась в окопах, удерживала высоты. Дунаев стал судорожно прыгать во времени, перемещаясь, как по линейке, по промежутку времени 29 ноября – 18 декабря 1941 года. Ему отчего-то мучительно хотелось добраться до Нового года, но ничего пока что не получалось.
Никогда раньше Дунаеву не приходилось перескакивать во времени на такие большие сроки (до 7 – 8 дней один прыжок), и он впервые почувствовал, как это тяжело. «Да, это тебе не полчаса туда, пять минут сюда», – подумал он, изо всех сил сжимая зубы, чтобы не развалиться в мелкую труху. «Прыжки на дальнюю дистанцию» требовали крайнего, почти немыслимого напряжения сил; парторг чувствовал себя на пределе своих возможностей, он весь раздулся, словно лягушка в брачный период, ему казалось, что он вот-вот лопнет.
Время, точнее этот проклятый промежуток времени, стал для него цирковой ареной и куполом с трапециями, где вдруг пришлось ему «выступить», да еще в двойной роли: акробата и атлета-тяжеловеса, жонглирующего гирями. И тем не менее, несмотря на эти мучения, он все прыгал, словно кто-то сильный и непререкаемый давил на него, заставляя проделывать эти немыслимые трюки. В какой-то момент, в нахлынувшем горячечном бреду, ему показалось, что это огромный Поручик крепко схватил его обеими руками и использует в качестве насоса, надувая осевшую шину своего старомодного велосипеда колоссальных размеров. Дунаев ощутил, что голова его сбоку, от виска, подключена через трубочку к металлическому ниппелю, ощутил, как горячий воздух, проходя через его тело, заставляет постепенно твердеть и наливаться чугунной тяжестью шину на этом гигантском колесе. Запахи разгоряченной резины и металла вдруг остро напомнили завод, жар вулканического цеха, и припомнились светлые глаза одного паренька, который там работал.
«Это он мою ОРБИТУ надувает», – сверкнула в мозгу отгадка.
Вглядевшись в лицо Поручика, склонившееся над ним, Дунаев, однако, вздрогнул – вместо козырька кепки у того был резной деревянный карниз крыши, вместо глаз – окна с наличниками, где трепыхались ситцевые занавески, вместо кожи и бороды – бревна. «Так это не Поручик, а сама Избушка старается!» – подумал парторг, но руки, которые его держали и «качали», знакомые заскорузлые руки, были, без сомнения, поручицкими.