Но вот Скатерть бросилась на врага и, молниеносно развернувшись, покрыла его целиком. Она заворачивала его, пеленала, словно покупку в магазине. В местах ушей и ноздрей еще вздувались пузыри, но Скатерть (ставшая огромной) наворачивалась слой за слоем, и эти пузыри постепенно оседали. Но что-то вдруг изменилось, и Самобранка внезапно стала разворачиваться, покрываясь на глазах синеватыми складочками, как бы от брезгливости. Это Бакалейщик поменял облик. Теперь он представлял из себя нечто неприятное. Как говорится, «плевал в глаз». Дунаев лишь однажды был в зоопарке. Там, среди нормальных животных, он иногда замечал в глубине клетки что-то темное, бесформенное, какую-то кучу, или комья, или свалявшиеся волосяные жгуты, что-то, относительно чего невозможно было понять: то ли это животное, то ли какие-то отходы жизнедеятельности животных. А если это все-таки животное, то какое? Может быть, уже умершее? Или умирающее? А если даже живое, то что означает эта жизнь? И особенно странно было видеть, как в этой неизлечимо невнятной массе вдруг приоткрываются блестящие, насмешливые, ликующие глазки. Таким предстал сейчас Бакалейщик. В зеленой пустоте он висел неподвижно, ничем не вооруженный, как будто забыв о борьбе. И все же Самобранка не могла просто накрыть его. Она стала предпринимать загадочные прыжки вокруг своего противника, то раскрываясь наподобие веера, то складываясь в элементарные геометрические фигуры, то смешно морщась. Казалось, она кокетничает и всеми силами старается привлечь к себе внимание врага. Однако тот оставался индифферентным. Наконец, Скатерть стала подскакивать к нему совсем близко и, услужливо разворачиваясь, подносить разные вещи, как бы предлагая попробовать их. «Яства», правда, показались Дунаеву не слишком соблазнительными: то это была жестяная миска с водой, то какие-то старые заскорузлые бутерброды, то кусочки засохшего картофельного пюре, намазанного почему-то на расческу вместо хлеба.
«Издевается она, что ли, над ним?» – подумал Дунаев. Бакалейщик подношений не принимал, но соблазн, видимо, был велик: его стало трясти мелкой дрожью, он начал удрученно возиться, сопеть и ворочаться. Дунаев почувствовал, что еще секунда – Самобранка одолеет его. Она елозила уже вплотную к грязному волосяному покрову Бакалейщика. Однако не тут-то было! Неугомонный Бакалейщик встряхнулся, и парторг вдруг увидел вместо него девушку изумительной красоты. Она стояла в расслабленной и элегантной позе, закинув одну руку за голову. Золотистые волосы сверкающим потоком лились вдоль ее узкой спины. Девушка была совершенно обнаженной, только шею обнимало тонкое изумрудное ожерелье. Глядя на ее невинные нежные губы, невозможно было поверить, что совсем недавно из них изливался поток грязных сальностей и непристойных шуток. Но глаза – зеленые, сияющие глаза – несомненно были те же, что и у лысого сквернослова. Быть может, в них прибавилось только чуть-чуть девичьей сонливости и неги. Скатерть, впрочем, не прекратила наступления. Движения ее стали льстивыми: она ластилась к ногам девушки, обвивала тонкие щиколотки, свивалась на талии, наподобие некоего экзотического одеяния. Кажется, Самобранка обросла даже кружавчиками, подернулась обворожительным деликатным узором. Девушка благожелательно мяла в руках ткань, любовалась ее переливами, позволяла окутать себя, улыбаясь, словно бы не подозревая ни о чем. Но парторг уже ждал следующего превращения. Поединок, наполненный коварством и вожделением мнимых побед и поражений, очаровал его. Ему казалось, что он смотрит балет. Подоконник волошинского дома, в который он вцепился обеими руками, казался ему бархатным барьером ложи, а гул невидимого моря внизу – гулом восхищенной публики. Только сейчас он понял, как бывает иногда хороша война в Прослойках.
Девушка нежилась в складках и шелесте живой, обнимающей ее Скатерти. Видимо, эти объятия доставляли ей наслаждение: она грациозно изгибалась, вскидывала вверх руки, запрокидывала голову, прикрыв свои изумрудные глаза. Казалось, что она вот-вот кончит. Впрочем, и парторг был недалеко от оргазма. «Говорили же мне, что война и любовь – это почти одно и то же, а я, мудак, не верил», – пронеслось у него в голове, хотя на самом деле никто ему такого никогда не говорил.
Когда тело девушки уже целиком было окутано Скатертью, словно тогой, что-то сверкнуло, и девушка обернулась столбом яркого, пушистого пламени. Самобранка успела отпрянуть, но середина ее слегка сморщилась и обуглилась. Один уголок вспыхнул, и Самобранка, чтобы потушить себя, винтом ушла в невидимое парторгу море. Бакалейщик, ставший огнем, самодовольно засверкал в глубине зеленого неба. Из центра костра на парторга шел знакомый взгляд.
– Ну, что приуныли? – прозвучал голос Бакалейщика.
Парторг оглянулся внутрь комнаты. Оказалось, что, кроме него, никто не наблюдал за битвой. Комната была пуста.
– Эй, споем, что ли? – снова донесся голос Бакалейщика. – Давай-ка все хором – война же на дворе! Подпевай, Петрович!
Он запел, и парторгу пришлось подхватить эту песню, потому что так приказал взгляд Бакалейщика, просочившийся сквозь зеленые стекла очков. Ему показалось, что не только он, но и миллион других голосов, звучавших со всех сторон, подхватили кощунственные слова. Казалось, орали камни, ящерицы, чайки, муравьи:
Дунаев изо всех сил зажмурил глаза и заорал:
– Ах ты, сука! Да тебя убить мало! Совсем зарвался, говно фашистское!
В ответ раздался смех. Парторг приоткрыл глаза. Бакалейщик (уже в своем человеческом облике) корчился за окном и дразнил его. Он показывал ему ключ от очков, играл им, подбрасывал и ловил и хохотал при этом. Кровь бросилась парторгу в лицо. От гнева он сосредоточился и отдал приказ, мысленно обращаясь к Самобранке и ощущая свою власть над ней: «Ну, все. Поиграли, и хватит! Давай-ка сюда этого фашиста!»
В ту же секунду Скатерть вынырнула откуда-то, накинулась на Бакалейщика, в одно мгновение окутала его и затянулась узлом. Этот маленький белый узелок, тяжелый, неподвижный, оказался в руках у Дунаева. Парторг крепко сжал его, помня о том, что внутри – ключ, который единственный только может вернуть ему свободное зрение.
«Поручика надо найти! – сообразил парторг. – Он, ясное дело, на море. Эх, была не была, полечу вслепую!»
Засунув узелок за пазуху, Дунаев вскочил на подоконник и, не оглядываясь, полетел в зеленую тусклую глубину. Он слышал, как внизу шумит море, как свистит ветер, но ничего не видел. В какой-то момент ему пришло в голову, что сейчас он разобьется о скалы, но беспечная удаль бушевала в сердце.
«Эй, Снегурочка, поэтесса моя ненаглядная, предупреди, если что!» – мысленно попросил он.
Девочка кивнула во сне.
Глава 23. Севастополь
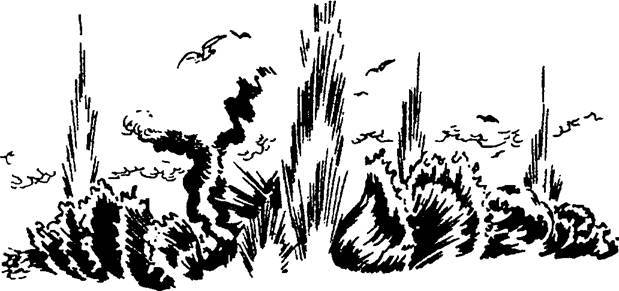
Он перемещался, но не по своей Гармошке, а будто по чужой. И казалось, будто невидимый идо приторности страшный Гармонист не спеша шевелит складками аккордеона, тихонько улыбаясь в усы своей внутренней песне, уверенно пробует то одну, то другую клавишу упругим пальцем, немного скося голову набок и поводя глазами. А свет в комнате приглушен, слушатели стоят, кто облокотившись о притолоку, кто с задумчиво скрещенными руками, кто у оконца. У всех мечтательные пьяные лица, неопределимые в полутьме. И в углах, и на обоях – красноватый отблеск, вроде бы не имеющий источника. Дунаев ощущал во всем этом нечто непоправимое. Одновременно Дунаев чувствовал, что летит в ночной промозглой тьме, что внизу под ним клокочут волны, ревет ветер, а где-то сбоку громоздится нечто подобное огромной горе или горному массиву. Но видеть этого он не мог. Затихшая комната с ужасным Гармонистом, и ночной ураган, и скорость слепого шторма, одетого в кружево брызг, и рев глухого ветра, падающего в бездну… И работа огромного механизма позади всего этого. И человеческая речь, повествующая о совсем уже нечеловеческих делах: о внутреннем состоянии машин, станков. Речь, которая регулируется механическими обстоятельствами, такими, как Мощность, Вес, Изношенность, Смазка, Сопротивление Материалов, Трение…