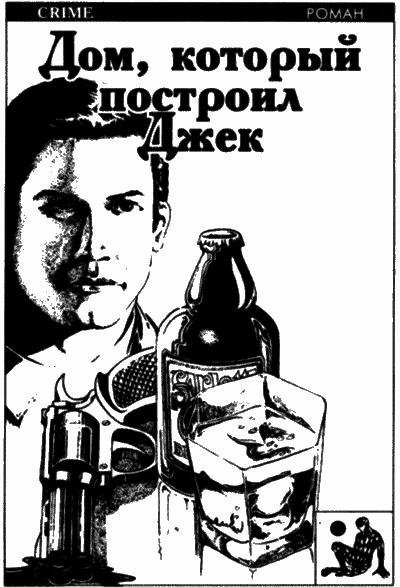
Посвящается Нэнси и Бо Хэйген
Глава 1
А ВОТ ВАМ И ФЕРМЕР, ЧТО СЕЯЛ ПШЕНИЦУ,
А ВОТ И ПЕТУХ, ЧТО С УТРА ГОНОШИТСЯ…
Мэтью казалось нелепым, что он, адвокат, лежит здесь, на мокром песке, под холодным дождем. Собственно, ради чего? Да и надежды мало.
Мэтью замер. Он слышал сердитый рокот волн, накатывающихся на берег, шелест пальм на ветру. И все.
— Так ничего и не услышал? — прошептал Уоррен.
— Нет, — тихо ответил Мэтью.
Они лежали за деревом неподалеку от дома на холодном сыром песке, с моря дул яростный ветер. Был третий день февраля, а дождь как зарядил, так и не переставал уже пятые сутки.
Мэтью думал о словах Ральфа Пэрриша.
Слова, слова… Их можно услышать, к ним прислушаться, но они ничего не значат, пока не сложатся в картины. У Мэтью слова пока не сложились в образы.
Ральф прикатил во Флориду повидаться с братом. Взял и неделю назад прикатил из своей Индианы, — о чем свидетельствовал номерной знак на его машине. Приехал на сорокалетие братца, а братец Пэрриша был гомиком, и Ральф отлично знал это, но оказалось, совсем не готов был увидеть. Мужчины в доме братца были одеты в женские платья! Танцевали в тесных объятиях, целовались друг с другом!!! И Ральф поспешил подняться наверх, в свою комнату. Оставалось десять минут до полуночи. А около семи утра раздался отчаянный крик брата. Ральф бросился вниз.
Ральф выглядел чуть старше пятидесяти, седые виски, нос луковичкой, тонкие губы. Простой фермер из Индианы, он, должно быть, отлично прижился бы здесь, в Калузе, куда теперь перебралось так много уроженцев Среднего Запада. Но он арестован — будто это он убил младшего брата! Его широким плечам тесна грубая тюремная роба, он растерян, подавлен — он пытается понять.
Слова, слова…
Джонатан, этот самый брат, радушно встречал гостей на своей вечеринке в ту пятницу. Погода была прохладная, а на нем плиссированные парусиновые брючки-слаксы и сшитая на заказ шелковая рубаха, расстегнутая до пояса. На волосатой груди массивная золотая цепочка с распятием, украшенным причудливой резьбой, — подарочек бывшего любовника, — «итальянский эпизод», как он выразился «в своем сучьем стиле». Да, Ральф так и сказал про «сучий стиль» своего братца. «А сам ты часом не педик?» — подумал тогда Мэтью.
Слова, слова…
Но образы, картинки уже возникали, уже складывались. Распятие — это так, пустячок от одного чикагского дантиста, по имени Брюс, которого он оприходовал прямо в сортире, а потом взял в приятели на все лето в Венеции. А Джонатан — весь такой гладенький и стройный, этакий бледный блондинчик с голубыми глазками и золотым распятием от Брюса. Он встречал гостей, а колокола церкви Святого Бенедикта мерно отзванивали: бом-бом-бом, уже семь, поспешите, ребята! В этой маленькой флоридской Калузе не принято опаздывать и терять минуты удовольствия!
— Джонатан, это просто восхитительно! — Голос был мужским, но платье — от Кардена, и бриллианты, и норковый палантин, и духи «Пуазон»… Пожилая местная «королева», одна из пассий Джонатана? Уже здесь, у старого дома на берегу залива, где в воздухе смешивались ароматы «Шамилар» и «Чайной розы» с вольным ветром, летящим с океана, — уже здесь они готовы были забыться в блаженстве. Они охали и ахали, а солнце садилось над заливом, и это был последний ясный закат, перед долгим, серым и дождливым ненастьем.
— Мой братец, знаете ли, эдакий фермер-джентльмен, — сообщает Джонатан.
И некто, затянутый в черную кожу, — велосипедист, представитель «простой» профессии? — интересуется с наивной любознательностью:
— А что они, эти фермеры-джентльмены, глубоко пашут?
Надушенная «королева» в норковом палантине бормочет: «Это гадко, гадко», и похлопывает Джонатана японским веером.
Вот так и складываются эти картинки: из слов, запахов, звуков.
Вот Джонатан включает новый компакт-диск, — чей-то подарок к его нынешнему празднику, кто-то говорит уже о первых звуках, как, мол, они холодны, бодрящи и ослепительно резки, и тут же парочка начинает обниматься в медленном танце, и раньше чем кто-то выдохнул слово «СПИД», все уже танцуют, точно в старые времена, ох уж эти милые, безвозвратные старые времена: рука на талии, другая на шее, пальцы широко расставлены, ласкают и шею и затылок, ну, покружись со мной, мой сладенький!
Ральф Пэрриш смотрит на это гала-представление и чувствует, что желудок у него выворачивается наизнанку. Он сообщает об этом братцу совершенно откровенно, тот удивлен, поражен, возмущен, и Ральф почти бегом отправляется наверх.
И до него все доносится и доносится смех, — это они над ним. И снова музыка. И взрывы смеха. Наконец он впадает в беспокойный сон. Ему снятся залитые солнцем поля пшеницы — его жизнь, и доход, и радость, — но колосья полегли, они истоптаны и смяты, из них поднимаются те, что смеялись там, внизу… И тусклый рассвет за оконной шторой. И стук дождя, барабанящего по стеклам. И уже не смех, а спор о чем-то, все горячее, все злее. И вдруг — пронзительный крик брата.
Слова, слова, много слов, они переполняли его, превращаясь в развернутые картины, и Ральф, еще не совсем проснувшись, выпутался из влажной простыни и рывком сел.
А брат все еще кричал, и Ральф видел этот крик: кроваво-красное пятно на бледно-сером полотне рассвета.
А потом — снова слова:
— У меня их нет! Я даже не знаю, где они!
Это его брат. Еще один вопль. И молчание. И Ральф несется вниз по лестнице. Хлопает дверь, в окно он видит, кто-то мчится по кромке залива, рассекая завесу дождя. Кто-то весь в черном. А на полу его братец — большим красным пятном.
Светлые парусиновые слаксы и шелковая блуза в крови, и весь он красен от крови, которая течет из шести резаных ран. А в груди торчит нож, и Джонатан смотрит на него снизу вверх. В глазах ужас и боль.
Позже он скажет Мэтью:
— Я сразу подумал: скорее вытащить нож — ему станет легче!
Он вытащил нож. И кровь хлынула ему на лицо и на руки.
— Так много кровищи было, — так он скажет потом Мэтью.
Слова, слова… Памятные слова под этим упорным дождем. И кровавые образы.
Ральф твердил, что мужчина в черном либо сам убил его брата, либо видел, как это произошло. Если он убийца, то почти наверняка вернется в дом. Так случается, и нередко. Полицейские Калузы уже закончили свою работу и ушли. А Мэтью и Уоррен так и лежат под дождем, ожидая, не появится ли тот, в черном.
— Ты так ничего и не слышишь? — прошептал Уоррен.
— Нет, — отозвался Мэтью. — А что?
— В доме кто-то есть, это точно.
Уоррен поднялся на ноги. Ему тридцать четыре, высокий, стройный, в прошлом полицейский в Сент-Луисе, а теперь частный детектив здесь, в Калузе. Из кобуры на поясе он достал «смит-и-вессон» 38-го калибра. Уоррен обошел вокруг дерева, за которым они прятались, а Мэтью не к месту представилась вдруг теплая, сухая постель у него дома. Но он двинулся вслед за Уорреном вверх по тропинке, к ступенькам крыльца, скользким от дождя, а мрачные тучи неслись и неслись по темному небу. На стеклянных створчатых дверях черного хода все еще белеет табличка шерифа — «Место преступления. Не открывать».
Уоррен прислушался и утвердительно кивнул, да, кто-то был там, внутри. Теперь и Мэтью слышал эти звуки, довольно громкие и вовсе не осторожные.
Двери были заперты, но Уоррен справился с замком в несколько секунд. В гостиной ни души. В темноте понемногу проступали очертания мебели: несколько легких пальмовых кресел, книжный шкаф, диван, у стены письменный стол, черный дверной проем. И снова шорох, сопенье, какая-то возня, там, за дверью, где была кухня.
Они сделали несколько тихих бесшумных шагов и остановились на пороге. Открыто окно. И занавеска колышется на мокром морском ветру. Глаза уже привыкли к темноте. Холодильник. Раковина. Столик. А на одном из стульев… что-то плотное, притаилось и — дышит, и глаза, блеснувшие точно в прорези маски.