7 мая 1788 года «Дон Жуан» был впервые представлен в Вене. И успеха не имел.
Шумная и оживленная, ходила Кавальери из дома в дом, из салона в салон и, жадно упиваясь, слушала, как на все лады хулят Моцарта. Ее единственный глаз радостно сверкал — Кавальери не умела, да и не хотела скрывать свои чувства. Однако торжество ее оказалось недолгим. Сальери, как это ни странно, стал мрачнее, чем был. Угрюмым молчанием встречал и провожал он свою подругу. В черных, глубоко ввалившихся глазах его были горесть, даже боль и злость. А однажды, проснувшись ночью, Кавальери увидела, как Сальери, никогда не отличавшийся особой набожностью, в ночной рубашке, стоя на коленях, бьет земные поклоны перед распятием…
Неуспех «Дон Жуана» Моцарт встретил безучастно: слишком устал и измучился он в борьбе за постановку своей оперы на венской сцене. Когда стало очевидным, что «Дон Жуан» в Вене провалился, композитор лишь грустно произнес:
— Эта опера написана не для венцев, скорее — для пражан, а больше всего для меня и моих друзей.
Да, друзья поняли и приняли «Дон Жуана». Одним из первых, кто горячо приветствовал появление этой дивной оперы, был Иосиф Гайдн. Прослушав ее, стареющий маэстро со свойственной ему лаконичностью сказал своему другу:
— Если бы ты ничего другого, кроме «Дон Жуана», не написал — и то было бы предостаточно.
Да Понте обратил всю свою могучую энергию на то, чтобы «Дон Жуан» не сошел с репертуара. Кое-чего он добился. В мае опера прошла шесть раз и в июне четыре раза. Однако это не изменило отношения консервативной Вены к «Дон Жуану». Иосиф II, всего один раз слушавший оперу, лицемерно заявил:
— Опера превосходна, божественна, — возможно, даже лучше «Фигаро», но этот кусок не по зубам моим венцам.
Когда да Понте передал эту фразу Моцарту, тот невозмутимо ответил:
— Ну что ж, дадим-ка им время ее разжевать.
Самому композитору не суждено было дожить до этого времени. Столица Австрии признала «Дон Жуана», партитуру которого, по словам Россини, можно рассматривать только коленопреклоненным, лишь после того, как гениальное творение Моцарта завоевало многие оперные сцены Европы.
Наиболее полную и всеобъемлющую характеристику этой «оперы опер» дал П. И. Чайковский. Он писал:
«Музыка «Дон Жуана» представляет непрерываемый ряд таких перлов музыкального вдохновения, перед которыми бледнеет все написанное до и после этой оперы. С какой бы стороны ни анализировать эту единственную, неподражаемо прекрасную оперу, приходится только изумляться и преклоняться перед величием человеческого гения. Любитель изящной кантилены остановится на чудном дуэте первого акта между Дон Оттавио и Донной Анной, оплакивающей смерть отца и уже взывающей к мщению, на дуэте Дон Жуана с Церлиной, на ариях Донны Эльвиры, Церлины и Донны Анны, на знаменитой серенаде Дон Жуана. Поклонник музыкальной декламации, доведенной до столь замечательного совершенства Глюком, найдет в речитативах Донны Анны такой потрясающий пафос, соединенный с чарующей красотой гармонии и модуляций, такую силу и мощь трагической выразительности, перед которыми меркнут красоты глюковского речитатива; обратить ли преимущественное внимание на ансамбли, на широкое нарастание масс в финалах, на инструментовку, на искусство писать вокальную музыку, соображаясь со свойствами и условиями удобоисполняемости, изучать ли мастерство вокальной характеристики, — на все эти спросы «Дон Жуан» отвечает с избытком и будет служить лучшим образцом до тех пор, пока будет существовать искусство».

IV
В КОГТЯХ НИЩЕТЫ

Жизнь Моцарта никогда не была легкой. Теперь же, после неуспеха «Дон Жуана», она стала еще тяжелей. Ему ничего не заказывали, его не приглашали выступать во дворцах и салонах, а когда он на свой страх и риск объявил академию по подписке, концерт пришлось отменить: на подписном листе стояла лишь одна фамилия.
Моцарта забыли. Для него, лишенного каких-либо других доходов, кроме музыкальных заработков, это означало нищету. И не в переносном, а в самом прямом и беспощадном смысле этого слова. В довершение всего после смерти Глюка он, будто в издевку, декретом императора был назначен придворным композитором.
Но если Глюк получал баснословно большое жалованье, то Моцарту была дана ничтожная ставка — всего лишь 800 флоринов в год. За эти жалкие гроши он должен был выполнять всякие мелкие музыкальные поделки — писать танцы для дворцовых празднеств и балов.
Получив свое ничтожное жалованье, которого едва хватило бы на квартирную плату, Моцарт грустно сострил:
— Слишком много за то, что я делаю, слишком мало за то, что я мог бы сделать.
Теперь и днем и ночью Моцарта преследовала одна мысль: где раздобыть денег, чтобы сегодня было чем прокормить себя, жену и сынишку? Каждое утро начиналось с беготни по городу в поисках человека, у которого можно хотя бы немного призанять, чтобы хоть как-нибудь, хоть на неделю, выкрутиться — отдать старый долг и кое-как перебиться с семьей.
И так день ото дня — из старых долгов в новые, из огня да в полымя. Иссушающие ум и душу визиты к ростовщикам. Просьбы об отсрочке уплаты, о снижении процента — и унизительные и напрасные.
После долгих и безуспешных поисков он в конце концов опять прибегал к помощи немногих верных друзей, вроде самоотверженно великодушного Михаэля Пухберга — простого венского купца, — и тот выручал — в который уже раз!.. Но дома — новая беда: опять заболела Констанца. Она теперь, как на грех, болеет очень часто. И снова надо сломя голову нестись к врачу, затем в аптеку, из аптеки домой. Поправилась жена — нагрянуло новое горе: заболел ребенок, немного прохворал и умер. За последнее время еще двух детей пришлось свезти на кладбище.
Да, за последнее время в доме Моцарта самыми частыми гостями стали врачи да гробовщики.
А город жил своей обыденной жизнью. Люди просыпались, вставали с теплых и мягких постелей, пили кофе, плотно завтракали, справляли свои мелкие, но казавшиеся им чрезвычайно важными и значительными дела: что-то запрещали, а что-то разрешали, кому-то угождали, а кого-то распекали, кому-то покровительствовали, а кого-то изничтожали, кого-то возносили, а кого-то ввергали в ничтожество, суетились, расталкивали друг друга локтями, норовили свалить наземь побольше других, чтобы по их телам подняться вверх, и все это для того, чтобы рано или поздно самим очутиться внизу, растоптанными; когда же день приходил к концу, отдыхали от трудов, развлекались, пространно рассуждали об искусстве и о том, насколько похвально поощрение его, и затем, довольные собой, своими делами и словами, спокойно засыпали, не тревожась о дне грядущем, ибо завтрашний день — твердо знали они — пройдет так же привычно и размеренно, как прошел нынешний и пройдет послезавтрашний. И никому из этих сытых и благополучных людей не было никакого дела до того, что рядом с ними гибнет человек, надрываясь в неравной и тщетной борьбе с нищетой.
Для Моцарта все яснее становилось, что в Вене из нужды не выкарабкаться. И он предпринимает новую отчаянную попытку побороть нищету. Распродав кое-что из домашних вещей, заложив не раз уже заложенное и перезаложенное столовое серебро, увязнув в новых долгах, он весной 1789 года отправляется в концертную поездку.
Дрезден, Лейпциг, Берлин — места новые, а все идет по-старому: множество выступлений — в частных домах и во дворцах, огромный успех и маленький гонорар, похвал — тысячи, а заработок — гроши.
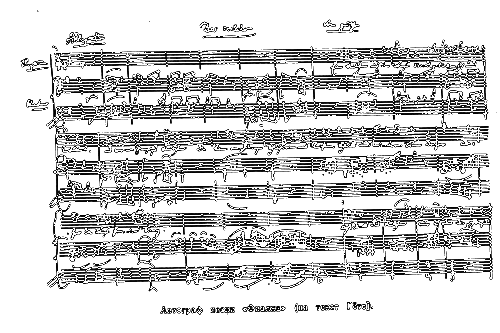
В общем поездка принесла 100 золотых. Их уплатил ему за квартет прусский король Фридрих Вильгельм II.
С этими жалкими крохами он вернулся в Вену. А здесь опять нужда, заботы о куске хлеба, болезни жены, настойчивые и неумолимые кредиторы. И снова Моцарт мечется в поисках денег, снова, как утопающий за соломинку, хватается за Михаэля Пухберга. Письмо к нему, написанное 12 июля 1789 года, преисполнено глубокого трагизма; это одно из самых горестных и смятенных писем Моцарта: