Ваша милость, быть может, решит, что мы с нею жили всегда в добром согласии. Но кому не ведомо, однако, что друзья, коль скоро они корыстные, будут стремиться обмануть один другого? Ключница наша разводила на дворе кур. Мне захотелось полакомиться одной из них. У этой курицы было двенадцать или тринадцать уже порядочных цыплят, и вот однажды ключница стала созывать их на кормежку, крича: «Пио, пио!» Услыхав этот зов, я закричал, в свою очередь:
— Черт побери, хозяйка, убей вы человека или обворуй короля, я бы еще промолчал, но промолчать о том, что вы тут делаете, нельзя! Горе и мне и вам!
Узрев меня в столь крайнем и как будто бы непритворном волнении, ключница несколько встревожилась.
— А что же, Паблос, я такого сделала? — спросила она. — Брось шутки и не огорчай меня.
— Какие тут шутки, черт возьми! Я-то ведь не могу не дать знать обо всем этом инквизиции, иначе меня отлучат от церкви!
— Инквизиции? — переспросила она и начала дрожать. — А разве я сделала что-нибудь во вред нашей вере?
— Похуже того, — отвечал я. — Лучше не шутите с инквизиторами, лучше признайтесь им, что вы оговорились по глупости, но не отпирайтесь от богохульства и дерзости.
— А если я покаюсь, Паблос, меня накажут? — со страхом спросила она.
— Нет, — успокоил я ее, — тогда они дадут вам отпущение.
— Так я каюсь, — сказала она, — только объясни мне — в чем, ибо сама я этого не знаю, клянусь спасением души моих покойников.
— Неужели вы этого не знаете? Уж не знаю, как и сказать вам, дерзость-то ваша меня прямо в ужас приводит. Разве вы не помните, что позвали цыплят: «Пио, пио», а Пио — это имя пап, викариев господа бога и глав церкви! Разве это малый грех?
— Я и в самом деле так сказала, Паблос, — помертвев, призналась она, но пусть не простит меня господь, если это было по злому умыслу. Я каюсь, а ты подумай, нет ли какого способа избегнуть обвинения; ведь я помру, коли попаду в инквизицию.
— Если вы поклянетесь перед святым алтарем, что не имели злого умысла, я, пожалуй, на вас и не донесу, но нужно, чтобы вы отдали мне тех двух цыплят, что вы кормили, подзывая святейшим именем первосвященников, а я отнесу их на сожжение одному слуге инквизиции, ибо они уже осквернены. Кроме того, вы должны будете присягнуть, что никогда не повторите ничего подобного.
— Забирай же их, Паблос, сейчас же, — возрадовалась она, — а присягу я принесу завтра.
— Плохо только то, Сиприана (так звали ключницу), — сказал я ей для вящего правдоподобия, — что в этом деле я сам подвергаюсь большой опасности. А вдруг инквизиция решит, что провинился-то я, да и наделает мне неприятностей? Лучше отнесите вы их сами, а то я, ейбогу, боюсь.
— Пабло, — взмолилась она, — бога ради, смилуйся надо мной и отнеси их сам, с тобой ничего не может приключиться.
Я дал ей время как следует попросить меня и наконец сделал так, как хотел: забрал цыплят, спрятал их в своей комнате, прикинулся, что ушел со двора, а затем вернулся и сказал:
— Все обошлось лучше, чем я думал, он было хотел пойти со мною, чтобы взглянуть на виновную, но я его ловко обдурил и все устроил.
Она наградила меня тысячей поцелуев и еще одним цыпленком, а я направился туда, где были уже спрятаны его товарищи, и заказал одному харчевнику приготовить из них фрикасе, которое и было съедено в компании других слуг. Ключница и дон Дьего, однако, дознались об этой проделке. Весь наш дом был от нее в восхищении. Владелица же цыплят расстроилась чуть не до смерти и с досады едва не выдала все мои покражи и утайки, но ей все же пришлось умолчать.
Видя, что отношения мои с ключницей ухудшаются, я, не имея больше возможности надувать ее, стал приискивать новые способы развлекать себя и принялся за то, что студенты называют «хапаньем на лету».
Тут со мной приключились забавнейшие происшествия. Шествуя как-то около девяти часов вечера, когда прохожих уже бывает мало, по главной улице города, увидел я кондитерскую, а в ней на прилавке корзину с изюмом. Я вскочил в лавку, схватил корзину и пустился наутек. Хозяин кинулся за мною, а за ним его приказчик и соседу. Таща тяжелую добычу, я понял, что хотя расстояние между нами и порядочное, но они меня непременно догонят, а потому, завернув за угол, уселся на корзину, поспешно прикрыл ногу плащом и, держась за нее обеими руками, прикинулся нищим и начал причитать:
— Ой, как он отдавил мне ногу! Но, Господи, прости ему.
Преследователи, услыхав это, подбежали ко мне, а я стал бормотать «Ради царицы небесной» и то, что обычно говорят попрошайки, о недобром часе и об отравленном воздухе. Они попались на удочку и стали допытываться:
— Не пробегал ли тут один человек, братец?
— Пробежал до вас, — отвечал я, — и чуть не раздавил меня, хвала всевышнему.
Тут они бросились дальше в погоню, а я, оставшись один, дотащил корзину до дому, рассказал о своей проделке, и, хотя все весьма ею остались довольны, никто, однако, мне не поверил. Поэтому я пригласил всех на следующий вечер полюбоваться моим налетом на такой же короб, и они собрались, но, увидев, что короба стоят в глубине лавки и что их нельзя достать с улицы руками, решили, что представление не состоится. К тому же хозяин, наученный горьким опытом владельца изюма, был начеку. Подойдя на двенадцать шагов к лавке, я выхватил порядочных размеров шпагу, вбежал туда с криком «Умри!» и сделал выпад, целясь прямо в торговца.
Тот повалился на землю, моля отпустить его душу на покаяние, а я пронзил шпагой один из коробов, подцепил его и был таков. Приятели мои обомлели от этой выходки и чуть не померли со смеху, когда лавочник стал просить их освидетельствовать его, ибо он, дескать, вне всякого сомнения, ранен человеком, с которым только что повздорил. Но, оглядевшись и увидев, что при похищении короба соседние с ним оказались смещенными, он догадался, что стал жертвой надувательства, и начал без конца осенять себя крестным знамением.
Признаюсь, редко что выходило у меня столь удачно. Приятели мои уверяли потом, что хватило бы меня одного, чтобы пропитать весь дом моими набегами, или, выражаясь более грубо, кражами.
Будучи молод и видя, как восхваляют мои таланты и умение ловко выпутываться из всяких переделок, я пускался и на другие подвиги. Каждый день я притаскивал полный пояс кувшинов, которые выпрашивал у монахинь, чтобы напиться воды, но не возвращал обратно. Кончилось это, правда, тем, что мне перестали их одалживать без залога.
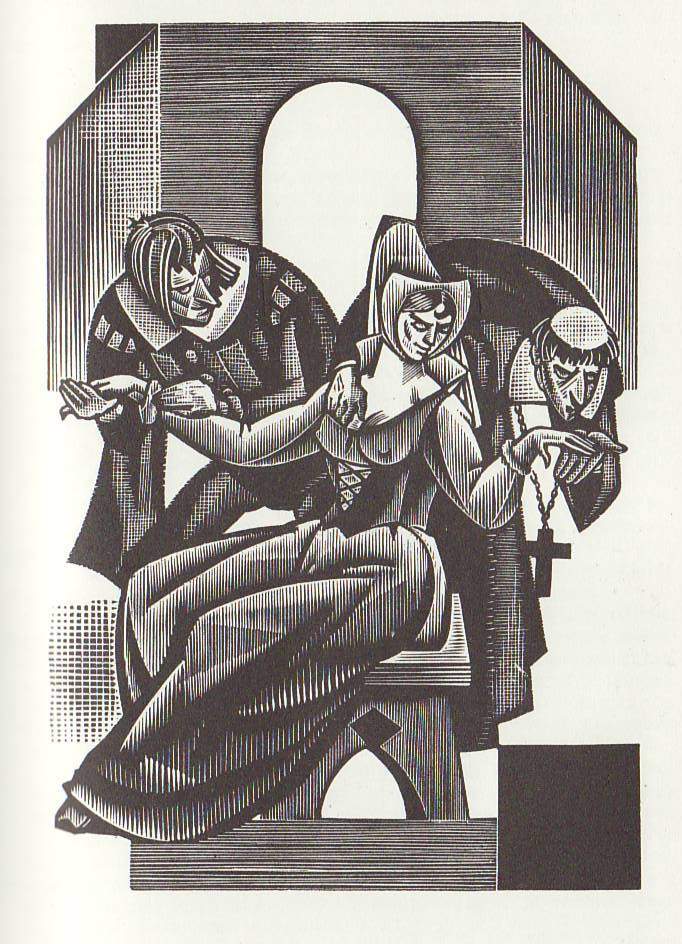
Однажды я дошел до того, что пообещал дону Дьего и всем моим приятелям какнибудь украсть шпаги у ночного дозора. Мы сговорились и вышли все вместе во главе со мною. Обнаружив дозор, я вместе с другим слугой подошел поближе и спросил с весьма встревоженным видом:
— Стражи закона?
Они ответили, что да.
— А где коррехидор?
Они сказали, что здесь. Тогда я преклонил колена и обратился к нему с речью:
— Сеньор, в руках вашей милости — мое спасение, мое отмщение и великая польза для государства. Соблаговолите, ваша милость, выслушать два словечка наедине, и вам будет обеспечен изрядный улов.
Он отошел в сторону, корчете уже схватились за шпаги, а альгуасилы — за свои дубинки, и я сказал ему:
— Сеньор, я прибыл из Севильи следом за шестью величайшими злодеями на свете, грабителями и человеко-убийцами. Один из них лишил жизни мою мать и моего брата, дабы их ограбить, чему я имею доказательства. Все они находятся в сообществе — и это я слыхал от них самих — с каким-то французским шпионом, коего подослал, — тут я совсем понизил голос, — Антонио Перес.
При этих словах коррехидор даже подскочил и заорал:
— Где они?
— В публичном доме, сеньор! Не медлите, ваша милость, души моей матери и брата воздадут вам молитвами, а король — само собою…
— Господи Иисусе! — заторопился тот. — Какое тут может быть промедление! Следуйте все за мною, дайте мне щит!