— Пожалуй, в нем нет нужды, — сказал я, вспомнив про историю с заброской Константина. Пусть до конца будут уверены во мне.
Габиш и Гюберт переглянулись.
Гауптман спросил:
— А почему вы отказываетесь?
— Зачем оно мне? Ведь для того чтобы его носить, необходимо разрешение. Прыгать же с оружием глупо и опасно. На той стороне, если понадобится, раздобуду. Теперь, во время войны, это нетрудно. А вот капсулку с ядом, на всякий случай, я попросил бы.
— Ошень верно! — одобрил Габиш. — Тогда есть все. — Он встал с дивана, неестественно выпрямился, выставив вперед живот, подал мне руку и немного торжественно сказал: — Ваш дел, господин Хомякоф, будет узнайт фюрер! Ви должен понимайт! Хайль Гитлер!
Мы расстались, а через три часа Гюберт вез меня на своей машине на аэродром.
Погода была самая подходящая: бушевала снежная сумятица, ветер поднимал снег, бросал его в машину, срывая с гребней сугробов. По сторонам дымились верхушки снежных барханов.
На территорию аэродрома мы проехать не смогли. Еле-еле, с частыми пробуксовками, машина дотащилась до проволочной ограды; тут она зачихала и захлебнулась, зарывшись в снег.
Гюберт предложил идти пешком — другого выхода не было. Мы вышли из машины.
Небо было затянуто мглой. В стороне едва угадывались очертания села Поточного; там маячил робкий, одинокий огонек. Нудно и тоскливо, точно голодный пес, завывал ветер. Поземка крутила, шипела, завертывала петли, перевивала снег, собирая его в гривы. Сухие, колючие снежинки жалили лицо, как огнем.
Мы шагали, наклонившись вперед, по цельному снегу, утопая по колено. Густой пар валил изо рта. Наконец мы добрались до аэродромных построек.
Теперь тут все спрятали в землю. Наша авиация поработала здесь добросовестно. На аэродроме ночевало не больше трех-четырех самолетов. За проволокой чернела груда искореженного огнем металла — остатки грузовых машин.
Мы вошли в одну из землянок, разбросанных по территории аэродрома. Солдаты, сидевшие у стола, тотчас вскочили со своих мест и поспешно выбрались наружу.
— Устали? — спросил Гюберт, вытирая платком мокрое лицо.
Я признался, что устал. Мы закурили, сняли головные уборы. Гюберт извлек из кармана плитку настоящего шоколада, дал половину мне и сказал, что сам проводит меня на выброску. Явился унтер-офицер, весь облепленный снегом, козырнул Гюберту и доложил, что самолет ждет нас на старте.
Мы вышли в сопровождении унтер-офицера и вновь побрели по снегу к самолету. Приземистая, похожая на притаившегося перед прыжком хищного зверя, машина готова была к разбегу по дорожке, которую все время разгребали солдаты аэродромной команды. Глухо рокотали два мотора на неполных оборотах. На белом камуфлированном фюзеляже и на высоком стабилизаторе зловеще вырисовывались черные кресты. Экипаж был на местах.
Нам подали руки и помогли забраться внутрь. Тут было тесно и неуютно, как во всякой боевой машине.
— Все идет нормально, — произнес Гюберт и обратился к механику: — А где капитан Рихтер?
Механик не успел ответить. Рихтер, обучавший меня прыжкам, явился сам. На меня надели парашют, проверили лямки.
— Все? — спросил по-немецки Рихтер.
Гюберт кивнул. Рихтер подал сигнал пилоту. Взревели моторы. Вокруг машины забесновалась белесая мгла. Все задрожало, самолет рванулся вперед. Я не успел заметить, как он оторвался от земли, и определил, что мы в воздухе, только по ровному и монотонному рокоту моторов.
Все сидели молча.
Непередаваемое чувство овладело мной. Как понять это человеку, не пережившему нечто подобное тому, что пережил я? Я возвращался на Родину из самого логова врага. Я не только остался жив, но выполнил порученное задание, вложил, пусть небольшой, вклад в дело борьбы своего народа против злейшего врага…
На большой высоте самолет перевалил через линию фронта. Его встретил слабый зенитный огонь, который быстро прекратился.
«Если бы знали там, на земле, кто летит, так, наверное, и вовсе бы не стреляли», — совсем по-детски подумал я.
Рихтер подсел ко мне карту и пальцем показал линию фронта. Я кивнул.
Высота стала падать. Внизу вдали замерцали слабенькие огоньки. Самолет сделал плавный поворот, выровнялся и как бы притих.
Над моей головой замигала яркая белая лампочка. Это для меня. Пора!
Рихтер отвинтил и отбросил крышку люка. Холодный воздух ворвался и заклубился в кабине.
Гюберт встал. Он крикнул мне что-то на ухо, но я увидел только, как шевельнулись его губы. Я ничего не услышал, да и не хотел слышать. Что мне теперь до всех разговоров! Я смеялся в душе.
Спустившись в люк, я повис на локтях. Рихтер поправил на мне парашют. Сердце на мгновение замерло. Затем я сдвинул локти и провалился в снежный круговорот. В лицо ударило что-то плотное и непроницаемое.
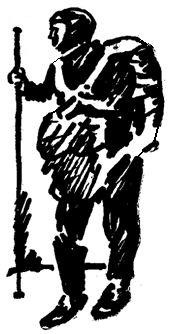
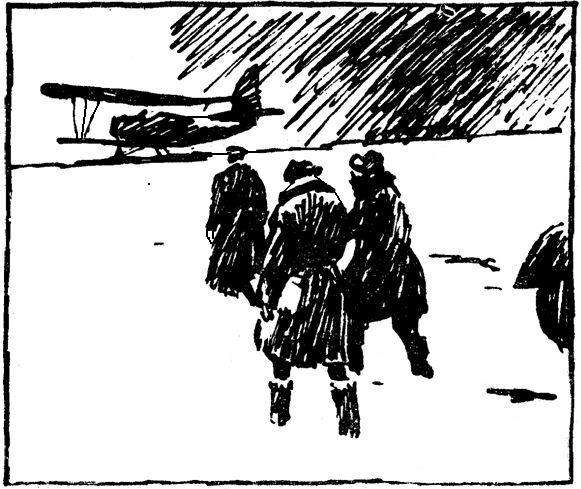
ЧАСТЬ ВТОРАЯ КОНЕЦ ОСИНОГО ГНЕЗДА
31. ГОРЕ
С той ночи, как я возвратился на Большую землю, прошло почти четыре месяца. Зима круто повернула на весну. На смену морозам пришли оттепели. По широким просторам, степям и лесам нашей великой страны бродил бодрый весенний ветерок. Реки готовились взломать ледяной покров. Нестойкие морозцы держались лишь ночью, и по утрам только местами стекленели лужицы, затянутые тоненькой, непрочной коркой льда. Снег, изглоданный и источенный, точно короедом, теплыми ветрами, тяжелел, оседал, становился ноздреватым и похожим на слежавшуюся соль. Его поедало солнце, подтачивали туманы. Он еще держался в оврагах, на откосах дорог, в теневых местах. А под снежной коркой звонко журчали потоки талой воды и пенистыми ручейками текли своим извечным путем. Обнажились пашни, чернели дороги, а кое-где на припеке щетинилась и ласкала глаз молодая травка.
Мой домик стоял в глубине соснового бора, у самого обрыва, на берегу тихой речушки, в пятидесяти минутах езды от Москвы.
Я вспомнил ту снежную ночь, когда, подхваченный потоками ледяного воздуха, я падал сквозь непроглядную муть к белой земле. В памяти еще свежи были подробности той ночи.
Я помнил, как перехватило дыхание, когда рывком раскрылся парашют, а потом я свалился в мягкий снег и заскользил по снежному склону на дно оврага. Это было между шоссейной дорогой и станцией Горбачево.
Передохнув немного и оглядевшись, я с трудом скатал парашют, взвалил его на плечо и выбрался из оврага.
Кругом была ночь, снег. Так же, как и на той стороне, на вражеском аэродроме, здесь тоскливо выл ветер. Ни жилья, ни звездочки, ни огонька…Но теперь все — и ночь, и пурга, и ветер — не казалось таким зловещим. Все это пустяки. Ведь я был на своей, на родной земле!
Я пытался сориентироваться, но никак не мог определить, по какую сторону шоссе оказался и где находится станция, на которой меня ждали.
Я бродил по степи добрый час, устал и взмок. Наконец ветер донес надрывные и тяжелые звуки работающего мотора. Я прислушался. Звуки то усиливались и казались совсем близкими, то замирали. Я пошел на них и минут через десять — пятнадцать выбрался на шоссе.
Первое, что я увидел, был гусеничный трактор-тягач. Он натруженно тарахтел, поднимаясь на взгорок, волоча за собой огромные сани с цистерной. Я подошел к трактору и, уцепившись за поручни, спросил водителя, куда он едет. Выяснилось, что на станцию Горбачево и что до нее километров семь.
Трактор, несмотря на оглушительный треск мотора, полз очень медленно, и, добираясь на нем, я мог бы замерзнуть. Я решил идти пешком и зашагал, оставив трактор позади. Мимо проносились автомашины с потушенными фарами. Шоферы лихо вели их в потемках на большой скорости и очень ловко разъезжались при встречах.
Но вот встречный грузовик внезапно мигнул фарами, ослепил меня и остановился.