Всеволод Ильич встает и, слегка припадая на больную ногу, прохаживается по комнате. Позже, когда вернется с работы Унпэнэр, когда с улицы прибежит Йорэлё и все усядутся за стол, он расскажет про Черноморье, покажет фотографии, раздаст подарки, привезённые с юга, — сейчас они лежат в углу комнаты, в его дорожном мешке.
— Слушай, Гэмалькот, — говорит Всеволод Ильич, — а ведь я уж давно знал, что придет время и будешь ты жить в настоящем доме. То есть знать-то, конечно, не знал, а… Как бы точнее выразиться…
Он останавливается, потому что слово «чувствовал» кажется ему как математику недостаточно точным, недостаточно определенным. Но, не найдя более подходящего, он продолжает:
— Ну чувствовал, что ли. Помнишь, когда я первый раз к тебе в гости пришел? Давно это было. Смотрю — самая обыкновенная яранга. В пологе Йорэлё на четвереньках ползает, совсем ещё малыш. Ни кровати, конечно, ни колпака над костром — никаких таких нововведений у вас ещё не было и в мыслях. Посидел, глаза малость попривыкли, увидел портрет на стене. Вот этот самый портрет. «Нет, — думаю, — недолго Гэмалькот в темной яранге жить будет. Недолго ему ползком к себе забираться». Где Ленин, там жизнь обязательно на правильную дорогу выходит. Где раньше, где позже, а выходит. Это уж непременно.
Подойдя к приятелю, он внимательно смотрит в окошко.
— Вот какое теперь окно у тебя! Все море видать! Можно отсюда зверя высматривать, не надо и на сопку подниматься. Увидел зверя — сразу в соседнюю комнату стучи: «Выходи, Унпэнэр, на охоту».
Старики смеются, весело подмигивая друг другу, Всеволод Ильич садится за столик Йорэлё, перебирает новенькие учебники для пятого класса, рассматривает висящую над столиком цветную фотографию — журнальную вкладку, на которой изображено высотное здание Московского университета.
— А ты знаешь, — говорит Гэмалькот, — я к тому окошку, что в яранге было, привык. Маленькое совсем, по сравнению с этим — дырка от шила. Да ещё в потолке. Что в него увидишь? Только если птица пролетит. А всё-таки привык, даже жалко было отдавать.
— Кому ж ты его отдал?
— Атыку подарил. Он пришел, просит ему окошко продать. «Хочу, — говорит, — в своей яранге поставить. Вам оно, — говорит, — всё равно не нужно, вы скоро в дом перейдете». Ну, я ему так дал, подарил. Сосед всё-таки, товарищ. Теперь то окошко у него в яранге вставлено. Мои ребята ему и вставлять помогали. Как думаешь, Севалот, скоро все чукчи в настоящих домах будут жить?
— Очень скоро, — уверенно отвечает учитель.
— С настоящими окнами? Знаешь, Севалот, окно — это для человека очень важная вещь. Ты думаешь, что знаешь про это, а на самом деле все-таки не совсем знаешь, потому что с детства к окнам привык. По-чукотски свет называется «кэргыкэр». А окно по-чукотски — «кэргычын». Как это по-русски сказать? Светлота? Нет? Ну, словом, ты понимаешь… Вот что такое для чукчи окно!
Выйдя в тот вечер от Гэмалькота, Всеволод Ильич медленно, чуть прихрамывая, зашагал по направлению к школе.
В этот поздний час улица селения была уже совсем пуста и тиха. Всеволод Ильич спустился с дороги, подошел к самому морю, вслушиваясь в негромкий, неумолчный плеск воды. Темное и холодное расстилалось перед ним Чукотское море.
Прежде чем пойти домой, он оглянулся назад. Там светилось окно нового домика Гэмалькота. Свет этот отразился улыбкой на лице учителя.
— Кэргычын! — произнес он тихонько — Светлота!
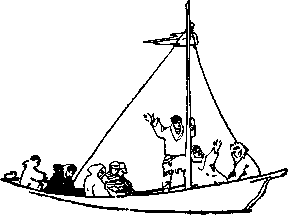
ЛЮДИ С ТОГО БЕРЕГА
— Ого! — смеется младший сержант Сергеев. — Ого!
Волна обрушилась у самых ног, обмыла сапоги, обдала лицо холодными брызгами. И — будто её вовсе не было — сразу же убежала в море, нырнула под другие волны, спряталась: «Не догнать меня, пограничник, не догнать, не найти!» Сергеев вытирает лицо платком и продолжает свой привычный путь. Не заигрывай, волна, не на такого напала.
Темно-зеленые валы непрерывно накатываются на песчаный берег. Один за другим, один за другим. С однообразным грохотом перекатывают они гальку по плотному песку. Над ними с жалобным криком летают белые чайки — то опускаются низко-низко, то вдруг стремительно взмывают, будто боятся, что захлестнет волной. Только какие-то маленькие птички отважно сидят на самых гребнях валов, подергивая тонкими шейками Как зовут этих маленьких храбрецов? Чукчи называют их «пекычын».
По капюшону плащ-палатки начинает стучать дождь. Сергеев поднимается на бугор, внимательно всматривается в неспокойное море. Всё оно — куда только достает глаз — белеет барашками.
Судя по всему, к ночи разыграется настоящая буря. Да и сейчас уже в море небезопасно. Все колхозные вельботы давно возвратились. Не вернулся только Унпэнэр со своей молодежной бригадой. Впрочем, Унпэнэр никогда не возвращается, пока не перевыполнит план добычи морского зверя.
Уже второй год служит здесь Сергеев, у него много друзей среди чукчей. Особенно среди молодых зверобоев. В свободное время он и сам не раз отправлялся с ними на охоту.
Он успел познакомиться с суровым нравом Берингова моря. Немало моряков поглотили эти северные воды. Правда, период осенних штормов ещё не начинался, но дело идет к тому, лето уж, можно считать, позади. Наступил август, а в августе здесь уже бывают порядочные бури.
Вон как разбушевалось море! Ветер дует с востока, от берегов Аляски… Нет, пора бы, пожалуй, и Унпэнэру возвратиться. Теперь, даже если вельбот молодежной бригады будет до краев наполнен зверем, всё равно за неосторожность бригадиру крепко достанется от стариков.
Сергеев оглядывает берег. В селении кое-где уже зажглись огни. Один за другим засветились два окошка в школе: в той комнате, где живет молодой директор школы Эйнес, и в той, где живет Кабицкий. Потом включили электричество в правлении колхоза, в нескольких домах колхозников. Невдалеке вспыхнуло ещё три огонька: это окна погранзаставы.
На Чукотском побережье зима наступает рано, и с нею приходит длинная полярная ночь. Но сейчас ночи ещё сравнительно коротки. Просто тучи закрыли небо, свет отступает сегодня раньше обычного. Потому-то в домах уже зажигают огни. А на дворе всё равно хорошо видно. Будто не вечер, а только ранние сумерки: в Заполярье не только у ночи упорный характер, здесь и день не сдается без боя.
Кто-то идёт со стороны селения. Ещё издали Сергеев узнает старого охотника Атыка. После обеда — с тех пор как поднялась волна — старик чуть не каждый час выходит поглядеть на море.
— Не видать ещё? — спрашивает Атык.
— Пока не видать. Да вы не тревожьтесь, папаша. Выберутся. Ребята молодые, сильные.
— То-то и плохо, что слишком молодые. Ума мало, уменья мало. Одно только глупое удальство в голове.
— Только ли? На одном удальстве, без уменья, хорошим охотником не станешь. А Унпэнэр по всему побережью славится.
— Мало ли что…
Старик на минуту умолкает, прислушивается, потом говорит:
— Нет, показалось… А Унпэнэра ещё много учить надо. Не имеет он права зря людьми рисковать. Один раз ему выговор на правлении дали, не посмотрели на его славу. Можем и совсем с бригады снять.
— Небось не снимете. Посердитесь да и простите. Разве на такого молодца можно долго сердиться? Небось и вы, когда молодым были, не очень про осторожность думали.
— Когда я молодой был, другое время было. Нужда в море гнала, голод. Нужда не спрашивала, какая погода. Ветер, не ветер — всё равно езжай. А теперь не такое время, чтобы чукча погибал на охоте: голодных в стойбище нет, все сыты. Если Унпэнэр себя не жалеет, должен товарищей жалеть, должен колхозный вельбот жалеть. Так?
— Так, — соглашается Сергеев. — Смелость нужна, а без дисциплины, конечно, тоже нельзя. Зря рисковать не годится.
— А тут ещё, — добавляет старый охотник, тяжело вздохнув, — тут еще мой Тылык увязался за этим сумасшедшим… Знал бы отец Унпэнэра, каким его сын вырастет, не дал бы ему такого имени.