А мы сбегали за лопатами, разрыли снег, разделили все, что нашли. Только никто особой радости от этих находок не чувствовал.
Два дня ничего мы не знали про Памью. На третий день шаман объявил, что Памья наказан за покушение на скупщика. «Он теперь никогда не вернется, — говорил шаман. — Его не люди наказали, его сами кэле наказали». И он еще так говорил: «Если кто-нибудь все-таки увидит Памью, пусть прогонит его или сам убежит от него. Пусть помнит, что с Памьей нельзя говорить, нельзя ни в чем помогать ему. Кто поступит иначе, тот разгневает кэле».
Кто-то узнал от приказчика, что сделали с Памьей. И через час об этом знали уже во всех ярангах. Оказывается, вот как дело было.
Карпендер сам побоялся Памью убить. От властей-то он летом откупился бы взяткой, а опасался, что люди отомстить могут за Памью. Позвал шамана. Шаман тоже решил схитрить. «Мы его трогать не станем, — сказал он. — Пускай Памью сами кэле судят».
Они его раздели догола, положили на нарты и отвезли в тундру. Там и бросили. Совсем голый он был, связанный по рукам и ногам.
Утром приехали они посмотреть на Памью. Они думали, что его тундровые волки растерзали, или морозом убило. Ходят, никак не могут его найти. Правда, ночью большой снегопад был, могло занести снегом. Рылись, рылись они в снегу, все сугробы обшарили — нигде нету. Там и Карпендер был, и Нэнэк, и приказчик. Не нашли. Решили, что не на то место приехали. Ночью-то они место как следует не приметили, пьяные ведь были, а тундра и трезвого может сбить с толку.
Вернулись в поселок. Какая разница — волки его загрызли или морозом убило? Подождали они еще два дня, и шаман объявил, что Памью кэле забрали.
А на четвертую ночь услышал я вдруг шорох в сенях нашей яранги. Выбрался из полога, чувствую — какая-то собака мне руку лижет. Пригляделся — в сенках Памья стоит со своей собакой. Делает мне знаки, чтобы я молчал.
Сначала я очень испугался; я тогда еще верил в этих самых кэле. А Памья мне говорит:
— Не бойся меня, Мэмыль. Сбегай к нам, скажи моему отцу, что я его жду здесь. Только сначала посмотри, нет ли в нашей яранге чужого кого-нибудь. Может Карпендер или Нэнэк подослали кого-нибудь, чтобы подстеречь меня.
У меня сразу страх прошел. Провел я Памью в полог, разбудил мать, мы его теплыми шкурами накрыли. Потом я за его отцом сбегал. А когда мы пришли, Памья спал.
Он у нас в яранге целый день провел. Как проснулся, поел немного, — все рассказал нам. Памью. оказалось, спасла его собака. Когда его в тундру везли, она за нартами бежала. А потом, когда бросили его, подошла, перегрызла лахтачьи ремни. У него и руки и ноги лахтачьими ремнями были скручены. Трое суток они по тундре ходили, прятались в снежных норах от ветра, грелись друг о друга. Вот как.
Одели его, собрали немного припаса в дорогу, и ушел он в верховья реки Амгуемы, к оленным чукчам. Там и жил, кочевал, оленей пас. Там и женился.
И все-таки настало время, когда Памья вер нулся, а Карпеыдеру удирать пришлось. Пришло такое время Теперь о байдарных хозяевах, о шаманах, да об американских скупщиках только старики помнят. Такие, как мы с Памьей.
Ведь он — Памья — до сих пор жив. Он в Анадыре живет, у старшего сына. Крепкий еще старик, а ведь он годов на двенадцать старше меня. Ты, Туар, если летом погостить поедешь, расспроси его, обязательно расспроси. Мы с ним еще в прошлом году вспоминали про ту рождественскую ночь. Про «кристмес» этот самый.
Старый Мэмыль смотрит на Туар, на Валентину Алексеевну и Кэйнынэ. Добрая улыбка, сначала едва заметная под ватными усами Деда Мороза, постепенно освешает все его лицо.
— Отдохнули? — спрашивает он. — Ну, идите теперь, попляшите. Ноги, наверно, давно уже в зал просятся? А? Идите, идите, вас там, небось, кавалеры заждались.
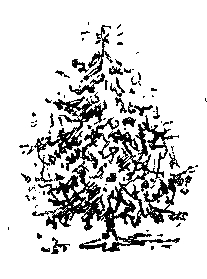
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Тает. Снег из белого стал грязновато-желтым, кое-где уже чернеет земля. Небо — синее-синее, теплое. Короткой ночью чуть потемнеет оно, чуть остынет, и снова восходит весеннее солнце. Еще дня три-четыре, самое большее неделя — и солнце совсем перестанет заходить за горизонт. Только коснувшись краешком горизонта, оно снова будет подниматься и своими теплыми лучами растопит остатки снега. Будут утра, дни и вечера, а ночей совсем не будет — до конца лета.
Хорошо В это весеннее время рано просыпается поселок. Спать никому не хочется, отоспались, видно, за зимние месяцы. Й разве улежит в постели настоящий охотник, когда прямо над поселком проносятся громадные стаи уток? Да что там утки Унпэнэр говорит, что слышал рев моржей Унпэнэр не станет врать — раз говорит, значит, действительно, слышал. И ничего нет удивительного: когда ж и реветь морскому зверю, как не весной? Во всяком случае, пора готовиться к первой охоге на моржей, к первому выходу в море.
Снег тает, но широкий ледяной припай еще крепко держится у берегов. Широкий, торосистый. Множество трещин избороздило его, а он все стоит. Каждый день море обкусывает край припая, волны отламывают льдину за льдиной и уносят их на север. Но от берега до открытой воды все еще далеко. Километров, наверно, пять. А то — и все шесть.
У самой воды сидит на припае охотник Кэнири. На коленях у него ружье, он внимательно поглядывает вперед, поджидая неосторожную нерпу. Лицо у него довольное — рядом с ним уже лежат на льду две нерпы с простреленными головами. О, Кэнири хороший стрелок Пусть только покажется среди волн круглая нерпичья голова…
Кэнири немного разнежился на солнышке. Оно так весело поблескивает на изломах торосов, так ласково пригревает Тепло, приятно — не то что зимой, когда в жгучий мороз подкарауливаешь тюленей у разводьев. А сейчас совсем не хочется уходить.
Между тем уходить уже пора, пожалуй. Бригадир велел в восемь часов утра быть у вельбота, там кое-какую починку надо произвести. Наверно, уже восьмой час. Или нет еще?
Сегодня Кэнири встал совсем рано. Никто не видел, как он отправился на припай. Он собирался поохотиться немного, а к восьми вернуться. Ну, в крайнем случае, к девяти. Вельбот — не зверь, сам в море не уйдет. Можно будет и с девяти приступить к ремонту.
Но охота — это такая штука, от которой очень трудно оторваться. Особенно, если охота оказывается такой удачной, как сегодня. Кэнири почему-то уверен, что скоро ему удастся подкараулить и третью нерпу. А уж тогда можно сразу вернуться в поселок.
Однако третьей нерпы все нет и нет. Что же, можно и подождать. Кэнири сидит на мягком охотничьем мешке из тюленьей кожи, спиной прислонился к обломку старого тороса. Такое удобное местечко выбрал, что можно хоть целый день просидеть, не шевелясь. А это для охотника — первейший закон: не шевелиться, ни одним движением себя не выдать.
Наверно, Кэнири слишком строго соблюдал этот закон — так срого, что в конце концов задремал, убаюканный ласковым солнцем, легким ветерком, ленивым колыханием волн, ленивым течением своих мыслей. Голова его падает на грудь, и от этого он просыпается.
«Ну, значит, надо возвращаться, — думает Кэнири. — А то еще разомлеешь тут совсем, заснешь».
Он представляет себе, как притащит домой свою добычу, как встретят его ребята. Каждому из них — всем четверым — он даст по одному нерпичьему глазу — это их любимое лакомство. Но жене уже не придется полакомиться нерпичьим глазом, да и самому Кэнири тоже не придется. Вот если бы вынырнула еще одна нерпа, тогда хватило бы на всю семью.
Далеко в море появились два пароходных дымка. «О, уже навигация открылась» — думает Кэнири. Он начинает размышлять об этих пароходах, о том, сколько дней они уже находятся в пути, откуда и куда идут… Кэнири решает посидеть здесь еще немного — до тех пор, пока дымки не окажутся прямо перед ним. По его расчетам это произойдет через полчаса, не позже. Когда можно будет смотреть на дымки, не поворачивая голову вправо, тогда Кэнири пойдет домой. Появится за это время третья нерпа — хорошо; не появится — тоже не беда. Две нерпы — тоже неплохо.