Глава пятая
Не нужно чистить чайники
Утром папа вскипятил себе чаю, позавтракал на уголке стола, переступая через чемоданы и сумки, молча разыскал рубашку и штаны, молча оделся и молча ушел на работу.
— Ма-а, — сказал я, потягиваясь на раскладушке и зевая, — а ма. Мне такой сон сегодня приснился! Знаешь, будто я работаю мойщиком автомобилей на станции технического обслуживания. Хы-хы-хы-ы!
— Глупости какие тебе снятся, Гремислав! — возмутилась мама. — Ты будешь не хуже других, моя ласточка. Ты только слушайся меня, и я сделаю из тебя человека. Ты будешь ездить на работу в белых сорочках, руководить людьми и получать большие деньги. Ты еще покажешь себя.
— Так на станции обслуживания в смысле денег ничего, — хмыкнул я. — Мне приснилось, будто я за один день плюс к зарплате заработал пять рублей двадцать восемь копеек. А до этого были приварочки и погуще.
— Немедленно прекрати! — закричала мама. — Одни дураки в наше время занимаются грязной работой. Если мы с твоим милым папочкой живем вот так, — мама обвела рукой комнату, — то ты у меня будешь жить иначе. Я как рыба об лед бьюсь и на работе и дома. А что я вижу? Твоего непутевого отца? Ты слушай только меня, Гремислав. Одна я желаю тебе добра.
— Ага, — зевнул я, — одна ты. Тебя слушай. Ты мне один раз уже нажелала. Спасибо. Вон хотя бы с Машенькой. Она тебе, видишь ли, понравилась, а я из-за тебя на ней сдуру женился. И после не знал, куда от нее деваться. Насытился по горло. Так что хватит. Теперь я все буду делать наоборот. И стану летчиком.
— Негодяй! — вскинулась мама. — Как ты разговариваешь с матерью? Какая Машенька? Что ты мелешь, оболтус? Только через мой труп ты станешь летчиком! Ты знаешь, как они бьются, эти летчики? Хватит болтать! Сейчас же вставай. Я из-за тебя опаздываю на работу.
— Опаздываешь… Оболтус… — ворчал я, нехотя одеваясь. — Никакой я не оболтус. Я теперь все наперед знаю!
В коридор я вылетел, подгоняемый крепкой маминой затрещиной. Даже штаны не успел как следует застегнуть. Плетясь по коридору к кухне, чтобы умыться, столкнулся с Ниной Бочкаревой. Через плечо у Нины висело махровое полотенце, а в руке она несла металлическую мыльницу. Нина гордо отвернулась и прошла мимо меня, держа впереди себя мыльницу, словно какую-нибудь шкатулку с драгоценностями. По коридору вслед за Ниной проплыл аромат духов и кремов.
— Нинка-дринка, тра-ля-ля! — крикнул я ей в спину. — Все равно за инквизитора выйдешь. Я точно знаю.
В кухне пахло крепким кофе. А у своего стола чистила картошку бабушка Самохина. Я даже попятился обратно к двери, увидев живой и здоровой бабушку Самохину.
— Здрасте… пожалуйста, — испуганно пробормотал я, таращась на бабушку.
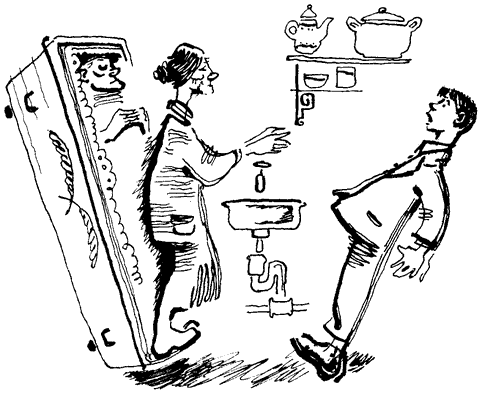
Я отлично, словно это было вчера, помнил, как посреди самохинской комнаты на обеденном столе стоял гроб и в нем, скрестив на груди руки, лежала мертвая самохинская бабушка. У бабушки что-то получилось с печенью. Ей нельзя было есть ничего жареного и пить кофе. Но она все равно ела и пила. В то утро она тоже напилась кофе и умерла. Это случилось как раз за несколько дней до того, как я познакомился с Таней Каприччиозой. И мама еще поругалась потом с Самохиными из-за уборки.
— Мойся, мойся, — сказала живая бабушка Самохина. — Чего ты на меня уставился? Давно не видел? В школу опоздаешь. Мойся. А то сейчас прибежит твоя мама — и нагорит не тебе, а мне. У твоей же мамы все виноваты, кроме тебя.
— Нет, бабушка, теперь все по-другому будет, — заверил я, намыливая руки. — С сегодняшнего дня все! Вот увидите.
— Увидим, увидим, — согласно закивала она.
— А вы вообще-то тоже, — сказал я. — Вы вообще-то тоже кофе больше не пейте, бабушка. Ладно? А то в гробу вы будете лежать со скрещенными руками через свое кофе. Честное слово.
Однако бабушка не поверила, что она может лечь в гроб от кофе.
— Как-нибудь не ляжем, — заворчала она, беря краем передника горячий кофейник и уплывая с ним из кухни. — Как-нибудь протянем… твоими молитвами.
Поговорив с живой самохинской бабушкой, я подумал, что с предсказаниями нужно, наверное, поосторожней. Народ вокруг вон какой. Им говоришь сущую правду, стараешься помочь, а они… Мама с раннего утра затрещину влепила, Нина Бочкарева надулась, бабушка Самохина вроде — тоже. Оказалось, люди не очень любят, когда им предсказывают. Особенно — когда предсказывают правду.
Поэтому когда, грохоча вниз по лестнице, я догнал Галю Вострикову, я ей ничего не предсказал. Только крикнул:
— Красавицам — мое почтение!
Крикнул и сам удивился — откуда у меня взялось это «красавицам»?
— Дурак и уши холодные, — обиделась Галя.
Но я ей все равно ничего не предсказал. Хотя мне было что ей предсказать. Чего она зазря, например, переводит время на кружок пения? Певицы из нее так и так не получится. Сама же потом будет стесняться петь и ни на одной вечеринке рта не раскроет. Один раз ей всего и пригодится ее пение. И то над океаном да в такой момент, когда людям не до песенок. Мечтает стать певицей, а сама попадет в стюардессы. На международные линии. Воздушные трассы на Париж, Нью-Йорк, Лондон. В Америку полетят, и над океаном откажет один из двигателей. Вот она и запоет пассажирам разные песенки, чтобы не получилось паники. Стоит ли из-за нескольких песенок столько лет в кружок бегать?
— А у тебя горячие уши! — крикнул я. — Думаешь, из горячих ушей певицы получаются? Из горячих ушей…
Однако я сдержался и не сказал, что получается из горячих ушей. Все-таки как-никак Галя Вострикова мне нравилась. И теперь даже еще больше, чем раньше. Стюардесса — это не певица. Я стану летчиком, а она стюардессой. На этот раз я ни на секунду не сомневался, что попаду в летчики. Я твердо знал, что для этого нужно.
Улица Желябова чавкала коричневым месивом снега. На бульваре под заснеженными деревьями гуляли нахохлившиеся голуби с красными, точно отмороженными лапами. Над бульваром между домами натягивали повторяющуюся из года в год иллюминацию — контуры огромной елки из лампочек и бородатого деда-мороза с мешком. Тоже из лампочек.
До школы я обычно бежал через улицу и проходной двор. Под аркой проходного двора валялся разбитый ящик из-под апельсинов. Я поддал ногой дощечку с торчащими из нее гвоздями и выскочил к баскетбольной площадке.
Через двор, согнувшись под тяжестью пузатого портфеля, понуро волочил ноги Димка Соловьев. Он всегда приходил к первому уроку хмурый и тихий, потому что долго просыпался. Димка Соловьев более или менее просыпался лишь ко второму уроку.
— Принес? — сипло спросил Димка, зябко поеживаясь.
— Чего принес? — не понял я.
— Ну, Карпуха, — пробурчал Димка. — Друг называется. Обещал же вчера. Я чего тебе обещаю, всегда приношу.
— Хы-хы-хы-ы! — обрадовался я. — У меня твое «вчера» знаешь когда было? Десять лет назад. Могу я за десять лет забыть какую-то чепуховину или не могу?
Димка Соловьев ничего не ответил. Он горестно вздохнул, сонно поморгал и потопал дальше к школе. И тут я вспомнил, как однажды встретил Димку Соловьева уже взрослым. Димка ехал в автобусе на завод и тоже спал. Стоял, зажатый в толчее, и клевал носом. На заводе Димка работал по отцовской специальности, формовщиком в литейном цехе. А по вечерам бегал на занятия в Политехнический институт. Они вместе с отцом ехали тогда на завод. И я сделал вид, что не узнал Димку. Не хотел, чтобы тот лез со своими расспросами.
— Да чего я тебе обещал-то? — толкнул я Димку плечом. — Очнись ты, соня. Послушай, Дим, — неожиданно стукнуло мне, — а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А? Кем?
— Отвяжись ты, — пробурчал Димка.
— Нет, правда, кем?
— Ну, формовщиком буду, — хмуро сказал Димка. — Как папа.
— Во! — удивился я. — Ты как пророк все равно, на десять лет вперед видишь. А мне, случайно, не скажешь, кем я стану?
— Откуда я знаю — кем, — надулся Димка. — Кем захочешь, тем и станешь. Так ты принес или не принес?