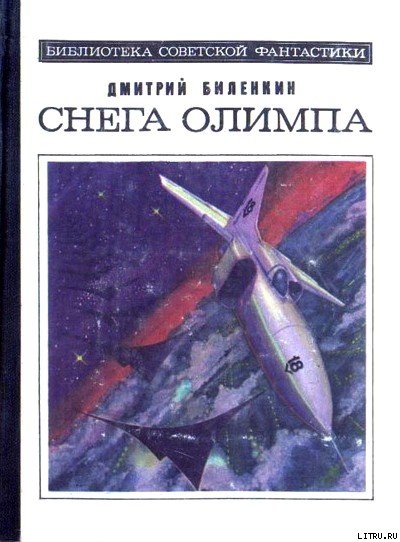
Дмитрий БИЛЕНКИН
СНЕГА ОЛИМПА (сборник)
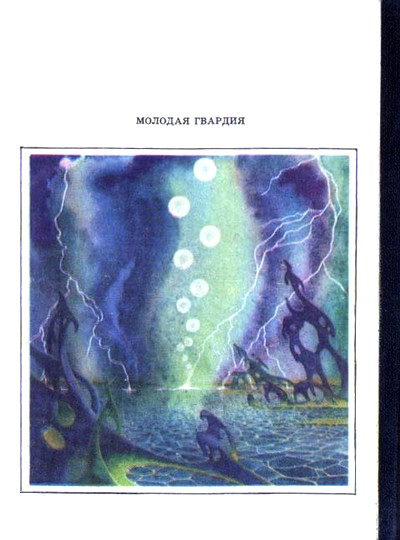

СНЕГА ОЛИМПА
Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо.
Долго перед глазами Вуколова и Омрина был склон, только склон, упорное восхождение, которое словно и не приближало к цели, так одинаково мрачный путь упирался в небо, где отрешенно горели звезды. Лишь привал на гребне ошеломительно распахнул пространство. Взгляд падал в бездну, смятенно искал в ней привычные пропорции и масштабы, но едва находил, как разум спешил поправить ошибку зрения. Ибо то, что виднелось отсюда пологом ночного тумана, было всей толщей атмосферы, а что казалось скалистой грядой, составляло могучий горный хребет. И вся ширь зари сокращалась отсюда до размера вдернутой во мрак цветной шерстинки.
Тихо было, как на плывущем облаке. Тонко звенела кровь в ушах, взгляд, успокаиваясь, парил над бездной, тело охватывала невесомость, и лишь твердь камня напоминала сознанию о грубой материальности мира.
Люди сидели как завороженные.
— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — отдаваясь прихотливому течению мыслей, прошептал Вуколов.
— Недолгое счастье Френсиса Макомбера, — эхом отозвался Омрин.
И снова упало молчание, вечное там, где не может быть ветра. Текли минуты, оба продолжали сидеть неподвижно.
Чем было для них сказанное? По какой логике им вспомнился давний рассказ Хемингуэя? Что общего было у них с Макомбером? Этого они и сами не могли объяснить.
Вуколов то и дело возвращался мыслями к своему прошлому, которое отсюда казалось далеким, маленьким, как пейзаж в перевернутом бинокле. Мальчик босыми ногами месил теплую дорожную пыль — неужели это был он? Неужели тот длинноволосый юноша, который в прокуренной комнате среди таких же неистовых юнцов о чем-то спорил до хрипоты, был тоже он? Или тот подтянутый, переполненный энергией молодой ученый на кафедре? Странно… Или та беспросветная ночь, когда он узнал, что любимая его не любит и все безнадежно, — она была? Неужели вот эта минута над бездной бездн — продолжение его прошлого?
Так оно и было, и Вуколов смиренно подивился тому жизненному зигзагу, который привел его сюда. Можно было считать почти запрограммированным, почти неизбежным и то, что он когда-то бродил босиком, и то, что мальчишка окончил школу, университет, и то, что он страдал от безнадежной любви, и даже то, что он очутился на Марсе. Почему бы и нет, в конце концов? Правда, из миллиардов людей на Марс попадали лишь сотни, но уж они-то были направлены туда волей человечества, столь же неуклонной, как сила, движущая планеты по их орбитам. А вот в том, что он, Вуколов, оказался здесь, не было никакой закономерности, по крайней мере логической. Скорей это произошло вопреки логике, да и здравому смыслу тоже. Не было очевидной цели, которая бы заставила их карабкаться в эту гору. Петрографическое исследование вершины? Да, возможно. Но если честно, то это оправдание перед совестью. Просто он поддался на уговоры Омрина. Просто ему хотелось осилить гору, и он дал себя убедить, что это нужно для науки. Желание, шальной порыв, если разобраться, не более. Все остальное придумано. И вот он здесь.
Какая-то чертовщина, если вдуматься! Один век сменялся другим, а люди и не думали подниматься в горы. То есть, конечно, туда шли, очень даже шли, но лишь затем, чтобы проложить тропу, достигнуть пастбища, провести караван, укрыться от набега. Все это ясные, насущные потребности. Людей интересовали перевалы, склоны, богатые золотом или медью, удобные для рекогносцировки вершины, а поднебесные кручи — нет. Зачем куда-то лезть без надобности? Когда Петрарка затеял подняться на какую-то там плюгавую вершинку в предгорьях Альп, куда мог взойти любой, но куда на памяти местных жителей никто не поднимался, он испытывал смущение. Он опасался насмешек, но еще более обескураживал его собственный порыв. Ведь никто не лезет в гору без дела. А он полез. Бог или дьявол нашептал это желание?
Альпинизм — плод досуга. Пусть так. Досуг кое у кого был и раньше, и у древних греков он был, но письменные свидетельства молчат о желании Сократа, Платона или Аристотеля взойти на Олимп, о том, что кто-то из их современников взбирался на Олимп. Позже — да: когда умерли боги.
А с девятнадцатого века началось. Десятки, сотни, потом тысячи, миллионы горопроходцев. Движение, по сравнению с которым великое переселение народов — пустяк. Да, спорт, да, закалка и школа мужества. Но не оправдание ли это задним числом нерассуждающей страсти? Ведь горы многих карали увечьями и смертью. Сомнительная выгода для здоровья и мужества. И что же? Нет очевидной пользы, нет осязаемой цели, ну и не надо, будем лезть просто так!
И он, Вуколов, лез. На Земле. Теперь вот лезет на Марсе. Просто так.
Прекрасная бессмыслица…
Положенные минуты отдыха истекли. Омрин с Вуколовым встали, молча повернулись спиной к бездне и мерным, коротким шагом двинулись вверх по склону.
Вуколов сделал это с сожалением. Задержаться хотя бы на час… Но времени нет, нет — мимо и дальше, что бы ни встретилось по пути, — так было в его жизни уже много-много раз.
Занимался третий день восхождения. Глубоко внизу свет зари разгорелся настолько, что проступили очертания скал. Небо по контрасту стало еще черней и как бы бросало на склон траурную тень. Сумрачный путь среди лав наводил уныние. Ничья фантазия не могла бы придумать ничего более тоскливого, чем каменные поля под черным пологом неба, и когда жидкий свет солнца отразил тень, то Вуколов вздрогнул, увидев, как она движется, воспроизводя все их жесты. Так могли бы двигаться души в стране усопших, и, конечно, там был бы именно такой пейзаж.
Шаг, шаг, шаг. Хрусть, хрусть, хрусть… Подошвы давили черный шлак пемзы. Звук передавался не по воздуху, которого на этой высоте, можно сказать, не было, а через скафандр, проникал в тело, и казалось, что непривычно и дико хрустят подошвы ног.
До сих пор жаловаться на трудности не приходилось. Гора не нагромождала серьезных препятствий и не требовала высшего мастерства. Не зря, выбирая маршрут, они столько часов изучали стереоснимки: на этом пути гора напоминала сильно увеличенный в размерах Эльбрус, только без ледников, снега и капризов погоды. День за днем, час за часом длился упорный подъем, то, что альпинисты называют «ишачкой». На Земле столь долгое восхождение само по себе измотало бы человека на первом десятке километров, но здесь они сами, их скафандры и груз весили много меньше, чем на Земле. И уж совсем не надо было заботиться о дыхании, потому что на любой высоте скафандр подавал кислорода столько, сколько требовалось легким. Все же бесконечный подъем утомлял, и тело уже вскоре после привала уподоблялось безучастному механическому шагомеру.
Шаг, шаг, шаг, Хрусть, хрусть, хрусть…
Поле тяготения, которое они превозмогали, давило на плечи, наливая тело вязкой усталостью. Конечно, в действительности все обстояло наоборот: каждый километр подъема неуловимо облегчал вес. Но им казалось, что они расталкивают все плотнеющую массу. Сердце, легкие, каждая клеточка мускулов работали на пределе, как у ныряльщика в подводной глубине. Только здесь напряжение растягивалось на долгие часы и бесконечные километры. Тело молило о спуске, но воля разума, не давая пощады, гнала его вверх и вверх.
Теперь вся жизнь Вуколова сосредоточилась в этом неуклонном подъеме, где ничего нельзя получить за так и где никаким ухищрением нельзя сократить положенное число шагов.