На безымянной высоте


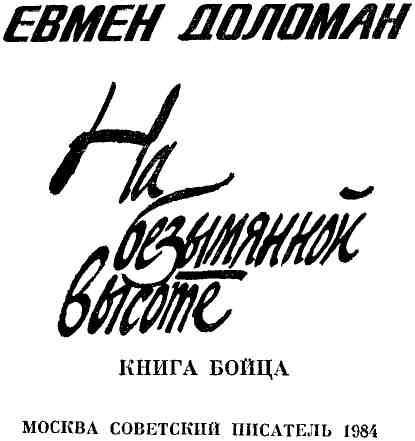
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Бойцам и командирам бывшей Челябинской добровольческой танковой бригады Уральско-Львовского танкового корпуса посвящаю
I
То памятное лето сорок третьего года…
Льет дождь, по-летнему теплый, щедрый. Но на перроне небольшой станции Шершни не протолкнуться. Челябинск провожает на фронт своих добровольцев — и нас, оказавшихся в их числе. На этой станции полтора года тому назад мы с Петром Чопиком — а он тоже с Украины — впервые ступили на незнакомую для нас уральскую землю. Работали вместе, на одном заводе… Далеко забросила нас судьба от родного дома!
А сейчас вот сядем в эшелон, и повезет он нас на запад, ближе к своим краям, повезет туда, где гремят громы войны, где бурлит огненный шквал, где каждого ждет своя судьба.
…Слез на женских лицах не видно — из-за дождя. Но по горестным лицам женщин, трепету губ, красным, набрякшим векам замечаем с тоской, как, бедным, им нелегко. Хоть по мне здесь никто и не плачет, сердце сжимает давящая, холодная грусть.
«Прощай, Челябинск, и поклон тебе за все!»
— По вагонам! По вагонам! — катятся вдоль эшелона, приглушая плач, слова команды.
Танкисты в черных, блестящих под проливным дождем шлемах бегут к платформам, на которых стоят прикрытые новым брезентом «тридцатьчетверки». Чопик, путаясь в полах шинели, побежал к своим — к пулеметчикам. Я забираюсь в пульман, где расположились минометчики. Смотрю в раскрытые двери. К вагону спешит наш командир, старший лейтенант Суница. Он оглядывается и машет рукой жене и белокурой дочурке.
Поезд, пронзительно вскрикнув, двинулся, стал набирать скорость…
А через трое суток мы уже разгружались на подмосковной станции Кубинка.
— Видишь, — говорит мне Чопик, — до Челябинска добирались больше месяца, а сюда — в десять раз быстрее.
— Ну и что?
— Значит, здесь мы в десять раз нужнее, чем там, понял?
Своим ходом — на машинах, на танках — двигаемся дальше.
Думали, сразу же попадем на передовую. Но за Наро-Фоминском останавливаемся. В лесу — городок из землянок. Там и располагаемся…
Настроение у меня несколько упало. Вижу, что устраиваемся здесь не на день-два: в командирской землянке, где был земляной пол, ребята настилают ольховые горбыли.
Гриша Грищенко печально качает головой:
— Такие деревья рубят… такие деревья…
С утра до позднего вечера строевая подготовка, тактика, материальная часть, стрельба из минометов, из карабинов. Тренируемся на ходу соскакивать, точнее, сваливаться с танков при полной боевой выкладке. Страшновато. На первых порах, бывало, так шлепнешься, что искры из глаз летят. Со временем научились, привыкли.
Как-то вижу, Грищенко навьючил на свои широченные плечи минометную плиту.
— Что, сменил карандаш писаря на миномет?
— Сменил.
— Почему?
— Нудное дело эти бумаги. Надоело… Теперь я в расчете Бородина.
— Человеком станешь.
Гриша ничего не ответил.
Кое-что у меня начало получаться, как у настоящего солдата. И вдруг нежданно-негаданно посыпались внеочередные наряды. А причиной этих неприятностей послужил мой ремень. Сам он брезентовый, а я надтачал его кожей.
Пока мы готовились к отправке на фронт, ехали, все было хорошо. На кожаной части пояса дырочек для пряжки хватало: нас кормили неплохо. А когда прибыли сюда и попали в резерв, положение изменилось. С резервистами, как известно, не очень нянчатся. И это мы почувствовали сразу. Суп такой, что в нем, как говорил Губа, крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой. Правда, для борща мы охапками носили крапиву. Может, в ней и есть витамины, но что касается калорийности, то… Очень быстро стройные ребята стали походить на смычки, а коренастые — на сучковатые палки. И совсем плохо, что не выдавали табак. Вблизи — ни военторга, ни магазина. Но мы разведали, что в ближайшем селе — километров за пять от нашего лагеря — одна бабушка обменивает табак на солдатский хлеб.
Начали промышлять: вдвоем живем на одной пайке, а другую отдаем за банку табака.
Думаю, если бы командир роты узнал о таком обмене, наказал бы нас по всей строгости.
Кожаный конец брезентового пояса постепенно удлинялся. Через несколько дней этот кусок кожи оказался лишним. Я уже прокалывал дырки в брезентовом ремне.
Проколю, затяну пояс потуже. Да только наклоняюсь, чтобы поднять на плечи минометную плиту, пояс сразу же становится большим, спадает. Потому что пряжка от небольшого напряжения, будто портняжный нож, разрывает прелый от пота брезент. И уже теперь на ремне не дырочки, а целая прореха.
По утрам, когда выстраивается рота, командиры расчетов, как обычно, проверяют своих подчиненных. Сержант Можухин, который командует нашим расчетом, окинув внимательным взглядом замерших по стойке «смирно» бойцов, подходит ко мне. Оттягивает мой ремень за пряжку на себя и перекручивает пряжку на моем животе вокруг ее горизонтальной оси.
— Раз, два. — Он мог бы так считать до пяти, а может, и до десяти, пряжка бы свободно вертелась. Но он отпускает ее после двух оборотов.
— Рядовой Стародуб, — произносит так громко, что слышно и другим расчетам, — за полную расхлябанность — два наряда вне очереди! После отбоя дежурный по роте скажет, что вам делать…
Выходит, за один полный оборот пряжки — один наряд. А поскольку сержант не имеет права дать в один раз больше двух нарядов, то он и не перекручивает больше двух раз…
Такие сцены чуть ли не каждое утро. Это забавляло моих товарищей по расчету, даже командира нашего взвода — лейтенанта Ивченко, который, бывало, стоит неподалеку, поглядывает на нас и усмехается.
Я не раз пытался объяснить сержанту Можухину, почему такая беда с поясом. Но он на это не обращал внимания.
— Это же пустяк… — говорю.
— В снаряжении воина мелочей нет, — отвечает сержант, — все подчинено одной цели — высокой боеготовности солдата.
Тогда я попросил старшину роты заменить этот пояс на лучший. Тот сказал, что «в наличии не имеется…». И сыпались на меня внеочередные наряды, как удары бича на спину осла.
Хоть я и понимал, что сержант следует дисциплинарному уставу, было мне обидно. Ведь каждый вечер после отбоя я наводил порядок в расположении роты. Сколько мусора пришлось убрать, сколько песка наносить!.. Собрать его в кучу — была бы гора, высокая, как в Карпатах Говерла… Неужели для этого я пошел в добровольческую бригаду?
Спас меня парторг роты ефрейтор Власюков. Он подарил мне свой ремень. Я на радостях стал так туго затягиваться, что и пальца не просунешь. Внеочередные наряды отпали… А немного погодя тот же Власюков попросил командира роты Суницу перевести меня из третьего расчета в первый. Командир пошел навстречу парторгу. Таким образом, я попал в первый расчет сержанта Бородина. Будто я снова на свет родился — так стало легко и хорошо. Бородин — человек на удивление спокойный, душевный, без гонора. Даже команды, которые он отдает, звучат будто просьбы. Все мне здесь по душе, кроме одного, — что я очутился рядом с Грищенко. Я наводчик, а он — заряжающий. Между тем проситься в другой расчет как-то уже неудобно.
Чопик, услыхав от меня эту историю, весело смеется:
— Ну и везет тебе, бедному, как тому коню, который жаловался: куда я — туда и арба, никак не отстает. Он, работяга, не мог догадаться, что впряженный. — Через минуту добавляет: — А может, это и лучше, что вы будете рядом. Ведь он неплохой парень, да еще земляк.