— Человеку от баенки польза одна, а от лиходея в пору оборониться надобно. Время упустишь — назад не воротишь.
Не спорит Федосьюшка. Хорошо ей, на пуху лебяжьем полеживая, сестриц поджидать. Пускай мама что хочет, то и делает. От ее теплых пухлых рук, от шепота ласкового береженьем на Федосьюшку, словно от опахальца прохладой, веет.
Одна за другой из баенки в предмылье потянулись сестрицы.
припевает, как клюква, красная, Марьюшка. Раскрасневшиеся, распаренные, все лоснящиеся царевны, одна за другой, валятся в изнеможении на лебяжьи перинки, положенные на лавки.
Полежали, отдышались и веселую возню подняли. Начала Катеринушка. Скатанным рушником в Марьюшку запустила. Та в долгу не осталась. Поднялись все сестрицы: кто за Марьюшку, а кто за Катеринушку. Залетали рушники, ширинки, пояса. Марьюшка лебяжьего пуха изголовьице у себя из-под головы выдернула, хотела им в широкую спину Евдокеюшки запустить, да промахнулась. У мамы ковш с квасом холодным из рук вышибла. Мама только ахнула, сенные девушки визг подняли, а царевнам любо. Развеселились, словно котята выспавшиеся. Наигрались, приустали и опять на перинках растянулись, о праздничном переговариваются:
— У батюшки, сказывают, мехов да парчи заготовлено!
— Царица ноне зарукавьями да ожерельями нас дарить собралась…
— А я слыхала, будто государыня тётка Ирина Михайловна все зеркала свои раздарить хочет…
— Неужто правда? Кто тебе сказывал, Марфинька? Вот хорошо, кабы подарила!
Взволновались царевны, радуются, но не до конца верят. Не первый год тетка им зеркала обещает, а как придет время расстаться с ними, решиться не может.
А зеркала у нее!
Таких, как у Ирины Михайловны, у самой царицы нет. Все в каменьях самоцветных, в оправах золотых и серебряных, с прорезью травною да цветочною. Отец с матерью, да и дед патриарх Филарет Никитич с бабкою инокинею Марфою — все красавицу царевну драгоценными зеркалами дарили. Пока молода была, любила Ирина Михайловна на красоту свою поглядеть. То у одного, то у другого зеркала, тафтяную занавесочку раздернув, подолгу царевна стаивала.
Но пришел день, когда она все зеркала сразу в один большой кованый ларец убрать приказала. Много лет схороненные зеркала те под спудом лежали, а на днях царевна их достать приказала. Выбрала шесть самых лучших и велела их почистить.
— Каждой из нас по зеркалу готовит, — объяснила Марфинька.
— Ох и наряжусь же я в праздник. Будет на что в новое зеркало поглядеть, — сказала Катеринушка.
— И я наряжусь.
— И я!
— Все нарядимся!
— В сочельник в шубках бархата веницийского с батюшкой за стол сядем.
— Ко всенощной шубки наденем, а из церкви прямо в столовый царицын покой пойдем.
— Сребротканые летники в день Рождества обновим…
— Цепочками, крестиками, монистами уберемся…
— Белил да румян на торгу накуплено…
— В ароматники с аптекарского двора всяких ароматов добыто…
— Сурьмы хватит ли?
Перебивают друг друга сестрицы. Глаза у всех блестят. Голоса веселые.
— А на вас, принаряженных, кто любоваться-то станет? — громко, на все предмылье, спросила до той поры молчавшая Софья.
Оторопели сестрицы от вопроса нежданного. Катеринушка руку с костяным гребнем, бирюзой украшенным, на колени уронила. Марьюшка концы белого головного плата из пальцев выпустила.
— А батюшка, а братцы?.. — неуверенно и робко напомнила Федосьюшка.
Покосилась на нее Софья. Усмехнулась. Всех сестер оглядела царевна. Жалкими они ей показались. Лица, в баенке от притираний отмытые, помолодели, почти детскими сделались, и все до одной царевны ресницами моргают. Дети, когда их среди игры испугают, так делают.
«Несмышленыши!»— подумала царевна и усмехнулась печально.
А Марфинька, к ней наклонившись, шепнула:
— Не смущай их, Софьюшка.
Трудно бывало царевне с собою справляться, когда вдруг нее закипало у нее на душе. Как заговорили о празднике, не наряды, а катанье в санях расписных ей на ум пришло. На конях лихих, по снегу скрипучему, с бубенцами звонкими промчаться ей захотелось. Пускай бы метелица в лицо хлопьями забивала, бобровая шапка в снегу искристом индевела. Пускай бы народ московский на красоту, в терему схороненную, дивовался. Пускай бы люди вслед говорили:
— Вот Софья-царевна в санях катит. Нет ее пригожее да умнее в теремах царских.
Как птице дикой, когда ей крылья опутают, царевне биться, кричать захотелось. Пускай бы с ней вместе заметались, забились и закричали другие, любимые. Все было бы лучше, чем это житье заживо погребенных. Слова гнева, веками накопленного, у царевны на губах были, но опять разглядела она перед собою детские испуганные глаза с ресницами моргающими.
«Ежели скажу все, что думаю, еще пуще сестриц опечалю», — мелькнуло у нее в голове.
Стиснув губы, Софья круто повернулась к давно ожидавшей ее мамушке и склонила голову, чтобы та могла накинуть на нее летник.
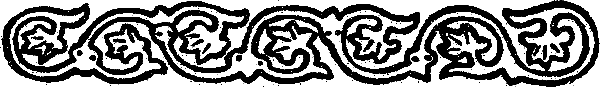
18
Тихо и торжественно, словно с самого звездного неба, спустился на землю сочельник.
Была еще темная ночь, когда царь Алексей Михайлович уже поднялся с постели и прошел для умыванья в свою мыленку, а оттуда в Крестовую для утренней молитвы. Помолившись в Крестовой, он оделся для своего обычного в этот день «тайного выхода» и вышел из Кремлевского дворца на улицу.
Молчали колокола кремлевских церквей. В этот день «тайного выхода» не полагалось провожать царя колокольным звоном.
Словно упавшие на землю звезды, засветились вдоль улицы огоньки слюдяных фонарей. За огоньками-звездочками шел царь.
Темно еще было, но на пути царя собралось все, что было скорбного, убогого и нищего не только в самой Москве, но и во всех ее пригородах и деревнях. Отовсюду тянулись руки к медленно проходившему по улице царю. Ни одна протянутая рука не оставалась без подаяния. Каждого просящего оделил царь из мешков, которые несли за ним подьячие. Каждый из царских рук получил разговенье к Великому празднику.
Но самые несчастные во всей Москве не могли выйти на улицу к проходу царскому. Крепко держали их тюрьмы своими решетками, засовами, замками и цепями железными. Неволей и муками выкупали тюремные сидельцы свои грехи. Были между ними и такие, от которых даже свои близкие отказались. Родные позабыли. Сидели несчастные, всеми забытые, долгие годы не видели ни солнышка, ни звезд, ни снегу белого, ни зелени весенней. Ни праздника, ни будней у них не было, одна темнота и мука.
Вот к этим-то несчастным из несчастных и собрался царь в Сочельник.
— Царь идет! Царь идет! — проносилось по тюрьмам. Гремели засовы, распахивались двери тяжелые. Огоньки-звездочки слюдяных фонарей заглядывали к тюремным сидельцам. А в дверях сам царь. Стоит, опираясь на свой посох индийский, и горит его золотая шапка, каменьями изукрашенная.
— Батюшка наш! Вспомнил для великого праздники Христова.
Опустели мешки у подьячих. Назад в Кремль повернул Алексей Михайлович. Тяжело опираясь на посох, медленно поднялся он по крыльцовым ступеням, усыпанным белым песком с Воробьевых гор. Устал он. Ноги отяжелели от непривычной ходьбы. Душа устала. Много горя перевидал он за эти часы.
А всем ли помог? Всех ли, как надо, оделил?
«По мере сил наделил. По мере сил», — успокаивал себя Алексей Михайлович, но тревожно было у него на душе.
— Прибавить казны для раздачи нищей братии у Красных ворот да на Лобном месте, — сказал он подьячим, задержавшись у распахнутой перед ним дверью.
Когда стемнело, в шубе серебряной, в Мономаховой, каменьями украшенной шапке, опираясь на золотой посох, ко всенощной в Успенский собор государь прошел.