— Главное, протащиться до своего родного лагеря, а там в люди можно выбиться… — вздыхали пересылочные.
И Колька, глядя на них, не понимал их желаний и надежд.
Его бред по ночам становился все сильнее и сильнее. Надзиратели качали головами. Даже при ударе под дых он не стонал. Стиснув зубы, молча переносил боль.
Как слабака, его после прибытия в лагерь перевели с бетонных работ в компрессорную. Каждый день, приходя на работу раньше всех, он должен был завести компрессор и проверить десять отбойных молотков. Осенью они работали исправно, а зимой заедали, а точнее, замерзали от накапливавшегося внутри конденсата. Чтобы молотки поскорее «отходили», Колька разогревал их на костре, а когда не разрешалось разводить костер, совал их в горячий глушитель компрессора. В работе он забывался. Но ненадолго. Стоило ему вернуться в барак, как он начинал пугаться неожиданно охватывающего его одиночества. Это изматывало Кольку, и на работу он приходил сильно ослабевшим. В один из дней, когда он вообще не смог выйти из барака, его отправили в лазарет.
— Не захотел в бараке жить, теперь уколы получай… — ругался на него бригадир.
Он ничего не ответил ему. Палаты в лазарете хотя и многоместные, но тишина была в них отменная. Больные тяжелые и больше всего страдают из-за перегрузок от тяжелого физического труда.
— Кто такая Лиана?.. — спросил его доктор на обходе, — Почему вы все время повторяете это имя?..
— Это моя больная… — тихо ответил Колька.
— А разве вы раньше имели какое-нибудь отношение к медицине?.. — удивился доктор.
— Да, имел… — вздохнул Колька и отвернулся к стене. Яркий солнечный свет переливался на ней. Колька смотрел на этот блеск и радовался ему, как в детстве.
РАССКАЗЫ
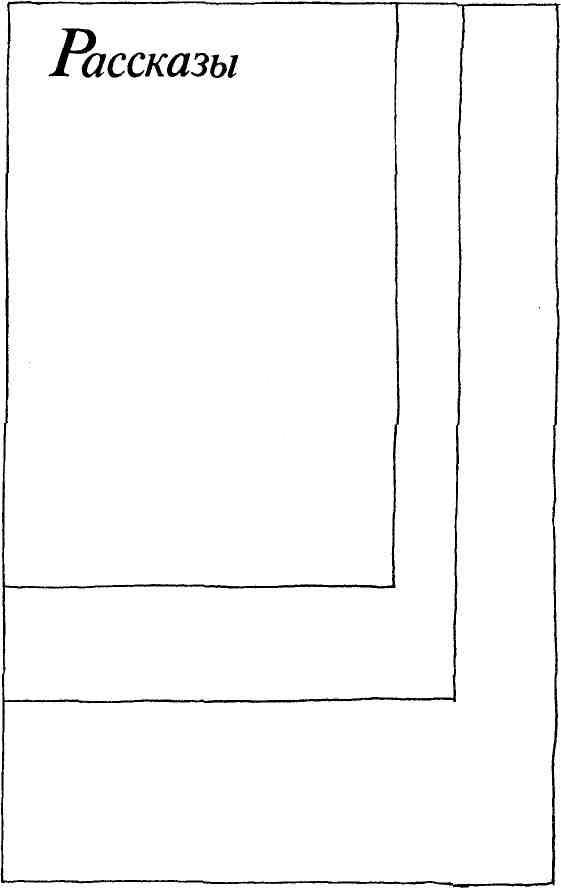
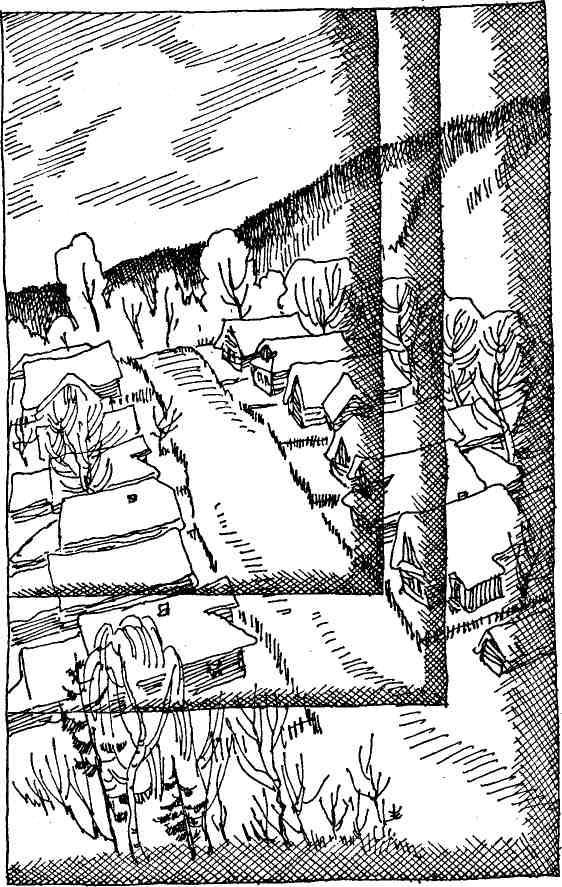
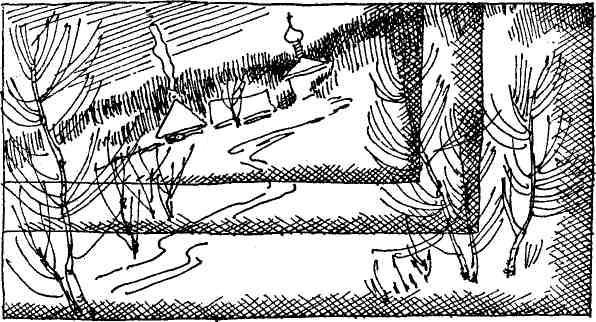
СВЕТ РОССИИ
Радуйся, великославный Российский наш заступниче, отче Сергие; радуйся, совершенный в добродетелех человече. Радуйся, преблагий и добрый наставниче иноков. Радуйся, образе пустынножителей и устроителю общаго жития; радуйся, всех православных скорый помощниче и заступниче.
Нет святее на русской земле места, чем Радонеж. Даже в самый морозный день солнечные лучи пробиваются здесь сквозь зимние облака и освещают земные холмики, речку и храмик близ леса с устремленной вверх колокольней. Приходилось мне бывать здесь во всякое время года. Забившись под ветхий надоградный навесик храма, я, жалкий странник, видел перед своими глазами и дождь, и грозу, и пургу. Но свет, все тот же солнечный свет, хоть и по крупицам, но добирался к этой таинственной и чудесной земле.
В Радонеж лучше всего приходить пешком, как приходили сюда когда-то с великодушным терпением наши далекие предки. Две дороги сюда ведут, и обе тихие, мирные, по-современному широкие.
Мороз крепчает. Да так, что лес начинает разговаривать. Дубы и березы потрескивают, ели попискивают, и весь этот полный беззаботной удали морозный звон спускается к низине, к чуть замерзшей по краям речке, где торжественно и замирает. Разогретый ходьбой, я с наслаждением вслушиваюсь в лесные звуки, напоминающие таинственный разговор.
— Это звон тишины… — говорит мне бородатый старик, хранитель храма-музея, которого я не видел два года. Он не изменился за это время. Все тот же прежний, полный доверия и расположения ко мне как к старому другу. На нем дешевая кожаная шапка и полушубок с огромным воротником и полами до самых пят. Рукавиц он не носит, видно, слабый морозец ему не страшен.
Чуть прищурив свои широкие глаза и разгладив бороду, он вдруг, к чему-то прислушиваясь, замирает, а затем тихо произносит:
— Лес разговаривает только в морозец, да и то недолго. А так в основном у нас здесь тишина, да не простая, а чистейшей воды, — и, сняв шапку, перекрестился. — Радонеж — особенное место. Здесь Сергий порешил стать монахом. А вон под той березкой он стоял… — И вдруг, строго посмотрев на меня, старик спросил: — Ты ведь, кажись, крещеный?
— Крещеный… — тихо ответил я.
Мы подходим к березе, на которую он указал. Старик вновь снимает шапку, следом за ним и я. Легкие движения воздуха, похожие на ветерок, здесь ощутимы, а с ними и морозец. Он пощипывает губы и щеки, покалывает ноздри и веки. Вокруг березки и над нею яркий солнечный свет. Снег под ногами искрится, и скатертью кажется он. Старик несколько раз крестится, не вытирая с глаз слез. Да их и вытирать, наверное, не надо. Чуть скатившись с ресниц и не успев даже расплыться, они тут же замерзают на разрумянившихся щеках. Березке лет пять, и она стройна и крепка. Тонкие длинные ветви ее устремлены вверх. Лишь кое-где они покрыты наледью и снежком. Словно понимая мое удивление, касающееся возраста березки, старик говорит:
— Вот именно на этом месте, под такой вот березкой и любил стоять Сергий.
Сколько березок с 1328 года на этом месте родилось и умерло, один бог знает. Одна другую сменяют и все растут, словно красоту свою и тень для дитятки Сергия сохранить стараются.
Я подошел к березке и прикоснулся к ее стволу. Он был крепким, упругим и, к моему удивлению, теплым. На какое-то мгновение это смутило меня. И с детской беспомощностью я, посмотрев на старика, произнес:
— Вокруг стужа, а от нее теплом пышет.
— Это не просто тепло, — словно понимая меня, произнес старик. — Это дух того времени, он всегда приходит к тому месту, где Сергий любил стоять, вот и сегодня пришел… — И, указав рукой на горку, воскликнул: — Смотри, смотри, как над снегом он расстилается, а вот он уже к речке подбежал, воду трогает и полынь шевелит.
Я смотрел туда, куда мне указал старик, и мне тоже казалось, что я видел дух Сергия Радонежского. Водная гладь реки действительно задрожала, и прибрежная полынь вместе с осокой вдруг зашевелилась. Откуда мог прийти этот дух, я не знал. Но он был. Я явственно ощущал его тепло и трепет на своем лице и руках. Он не страшил меня, а, наоборот, звал и манил за собой. Я впивался в него глазами, стараясь все заметить и отметить в нем. Река парила. И парная дымка вместе с духом струилась синим потоком, который поднимался к небесам.
Я пришел сегодня в Радонеж не просто так. Я был в беде. Я был несчастен, как бывает несчастным любой художник в трудные, нелегкие минуты творчества. Здесь, на этой святой русской земле, я хотел успокоиться, набраться сил и дать приют своей одинокой душе.
Я рад был каждому слову и намеку старика. Все, что он говорил, я впитывал и принимал. Да и, наверное, другой бы поступал точно так же на моем месте.
— А вон он уже у серого камня… — произнес старик. — Там археологи при раскопках нательный крест Сергия нашли и свистульку с гуслицей.
С волнением смотрел я на серый камень. Под лучами зимнего солнца он блестел и переливался, отражая в себе небо, горку и церковь.
— Смотрите, смотрите, а сейчас он к храму поднимается, — воскликнул старик. И действительно, дух оторвался от водной глади и, приподнявшись в воздухе, поплыл в сторону храма, торжественно стоящего над нами. И вослед река парила, и жалко было, что ее пар не мог подняться так, как дух. Наверное, духом был и этот пар, но старик не хотел мне об этом говорить. Да и не нужно было в эти минуты говорить. Бодростью и свежестью веяло от реки. Ее неподвижная гладь, обрамленная снегом, показалась мне вдруг таинственным образом в серебряной ризе. Солнечные лучи отражались в ней и вспыхивали точно огоньки только что зажженных свеч.
Старик дрожащей рукой поправил волосы на голове и, чуть коснувшись бороды, негромко, но очень красиво запел: