— Ты не будешь помнить, что когда-то было иначе. Твоя память будет искусственно заблокирована. Твою жизненную энергию поместят в тело, созданное для тебя в эпохе, которую мы выберем со всей тщательностью. Ты получишь набор фальшивых воспоминаний специально для этого периода. Скорее всего ты начнешь с детства и благодаря темпоральному сжатию сможешь прожить тридцать или сорок лет, пока здесь пройдет полгода.
— Мне это по-прежнему не нравится.
— Путешествия во времени — лучшая терапия, известная нам сегодня, — сказал Карестли. — Ты попадаешь в новое общество, впитаешь комплекс совершенно иных ценностей. И в этом заключен самый важный лечебный фактор. Ты будешь оторван от группового инстинкта, источника всех наших неприятностей.
— Но… — воскликнул Доусон — Ведь нас всего четыре тысячи. Одиноких, единственных в мире. Если мы не будем работать быстрее…
— Нам не хватает сопротивляемости. Проблема заключается в том, что много сотен поколений наша раса принимала мнимые ценности, противоречившие первобытным инстинктам. Чрезмерное усложнение и упрощение, все не на своем месте… Наша раса давно исчезла бы, не начни мы развивать ментальные способности. Некогда человек по фамилии Клеменс сконструировал механическую печатную машину. Идеальное устройство, имевшее лишь один недостаток — оно было слишком сложным. Пока она работала, все было превосходно, но когда-нибудь она должна была испортиться.
— Я знаю проблему старых машин, — подхватил Доусон. — Они так чудовищно сложны, что человек не может с ними справиться.
— Мы боремся с этим, — ответил Карестли. — Медленно, но успешно. Нас всего четыре тысячи, но мы уже знаем нужную терапию. Проведя в том времени шесть месяцев, ты станешь новым человеком. Сам убедишься, что терапия временем — пустяк, хотя совершенно необходимый.
— Надеюсь. Я бы хотел поскорее вернуться к своей работе.
— Если ты вернешься к ней сейчас, то через год сойдешь с ума, — объяснил Карестли. — Путешествие во времени — это своего рода прививка. Ты должен согласиться. Мы отправим тебя в двадцатый век.
— Так далеко?
— Те времена подходят к твоему случаю. Ты получишь полный набор воспоминаний и, оказавшись в прошлом, ничего не будешь помнить о действительности. Разумеется, о нашей действительности.
— Что ж… — буркнул Доусон.
— Идем. — Карестли встал и подплыл к диску трансмиттера. — Твоя матрица уже подготовлена. Тебе только нужно…
Доусон лег, и кокон сомкнулся вокруг него. Последний раз взглянул он на дружелюбное лицо Карестли, затем стиснул ладонь на рычаге аппарата и передвинул его вправо.
И стал Фредом Доусоном с полным набором фальшивых воспоминаний.
Однако теперь он вновь находился в аппарате, с носом, прижатым к стеклянному визиру, смердевшему дохлыми мухами. При каждом вдохе затхлый воздух царапал горло, все вокруг было погружено в серый полумрак. Он послал мысленный импульс. Снаружи вспыхнул свет, дальняя стена стала прозрачной. Он вновь мог видеть Город.
Он сильно изменился, стал гораздо старше. Корпус аппарата, в котором лежал Доусон, покрывал толстый слой пыли.
Огромное красное солнце погрузило город в кровавые сумерки. Нигде не было ни следа организованной деятельности. То тут, то там среди руин двигались какие-то фигуры, но отсюда невозможно было разглядеть, чем занимаются эти люди.
Он взглянул на административное здание — последнее великое творение его расы. Время наложило свой отпечаток и на него. Много лет прошло с тех пор, как он был замкнут в аппарате. Среди руин выделялись лишь самые высокие строения, а бледные существа, видимые кое-где в этом хаосе, не выглядели разумными. Последняя искра надежды погасла. Мутные воды истории сомкнулись над четырьмя тысячами людей.
С помощью своего разума он убедился, что во всем мире для него уже не было спасения, групповой инстинкт победил.
Он не мог больше дышать. Теперь Доусон знал, что именно этот удушливый кошмар является реальностью. Его организм, в котором вновь начались все жизненные процессы, жадно поглощал последние миллилитры кислорода, оставшегося в герметичном коконе. Конечно, он мог открыть крышку аппарата… Только вот зачем?
Доусон шевельнул рукой, и рычаг устройства вновь оказался в правой позиции.
Он сидел в приемной психиатра. Секретарша по-прежнему что-то писала. Яркие лучи утреннего солнца бросали на коврик ослепительные пятна.
Реальность…
— Вы можете войти, мистер Доусон…
Он встал и вошел в святилище Хендрикса, пожал ему руку, буркнул что-то и опустился в кресло.
Хендрикс взглянул на историю болезни.
— О’кей, Фред, — сказал он. — Ты готов к очередному тесту на ассоциативные связи? Сегодня ты выглядишь получше.
— Правда? — удивился Доусон. — Может, потому, что теперь я знаю, что означают символы.
Хендрикс внимательно посмотрел на него.
— Знаешь?
— Может, это вообще никакие не символы? Может, именно это и есть реальность…
И тут навалились знакомые ощущения. Пыльная, удушливая клаустрофобия, оконная рама, гнусный смрад, идущий непонятно откуда, и страшное чувство бессилия. Теперь, уже зная, что все кончилось, он вновь увидел сидящего за столом Хендрикса, который говорил что-то об опасности галлюцинаций второго порядка и о чувстве реальности:
— Главное — найти подходящую терапию, — констатировал ненастоящий человек.

Тень на стене
(пер. с англ. Н. Гузнинова)
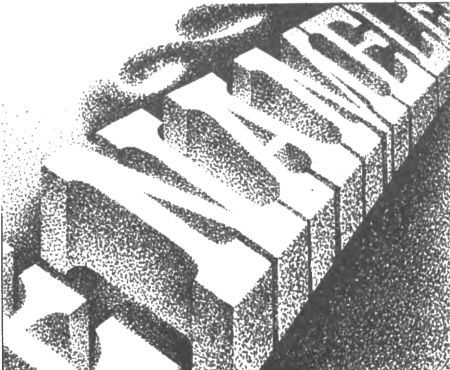
Премьерный показ «Мастера пыток» проходил в кинотеатре «Беверли Хиллс». Публика была настроена благожелательно, аплодировала, но я почему-то вздрогнул, когда на экране появились титры: «Режиссер Питер Хэвиленд». Если давно варишься в кинобизнесе, иногда бывают такие предчувствия; я часто определял неудачу картины еще до того, как прокручивались первые сто футов пленки. Однако «Мастер пыток» был не хуже дюжины подобных фильмов, снятых за последние несколько лет..
Я отрабатывал шаблонную коммерческую формулу и сам знал это лучше всех. Со звездой все было в порядке, гримеры поработали отлично, диалоги шли исключительно гладко. И все-таки фильм оказался коммерческой поделкой, как говорится, не из тех, что мне хотелось бы снимать.
Я посмотрел, как на экране мелькают кадры, потом, ободренный периодическими аплодисментами, встал и вышел в вестибюль. Там бродили несколько парней со студии «Саммит Пикчерс», курили и комментировали фильм. Энн Говард, игравшая в «Мастере пыток» главную женскую роль, заметила мою хмурую физиономию и потащила меня в угол. Энн была из редкого типа девушек, которые хорошо выглядят на экране без всякого грима, с которым, кстати, человек начинает походить на оживленный труп. Она была невысока, с карими глазами, темными волосами и смуглой кожей. Мне бы очень хотелось снять ее в роли Питера Пэна. Тот самый тип, понимаете?
Однажды я объяснился ей в любви, но она не приняла этого всерьез. Честно говоря, я и сам не знал, серьезно ли тогда говорил. Так вот, Энн провела меня в бар и заказала выпивку.
— Не строй из себя несчастного, Пит, — сказала она. — Фильм будет иметь успех, принесет достаточный доход, чтобы удовлетворить шефа, и не повредит моей репутации.
В этом она была права. У Энн в фильме была большая роль, и она неплохо с ней справилась. А фильм будет кассовым. Несколько месяцев назад студия «Юниверсал» выпустила «Ключи ночи» с Карлофом, и публика уже созрела для очередного ужастика.
— Знаю, — ответил я, знаками прося бармена наполнить мой бокал. — Но мне уже надоела эта халтура. Боже мой, как бы я хотел сделать второй «Кабинет доктора Калигари».
— Или вторую «Обезьяну Бога», — добавила Энн.
Я пожал плечами.
— Может, и так. Энн, есть масса возможностей показать на экране нарастающий страх… но ни один продюсер не примет действительно хорошего фильма такого типа. Скажут, что это, мол, претенциозно и что такой фильм непременно провалится. Если бы я стал независимым… Впрочем, Хехт и Макартур пытались, а теперь снова работают в Голливуде.