Позади, на востоке, исчезала в облаках дыма и пыли бурунная степь. Она лежала засыпанная снегом, истоптанная копытами, и над ней медленно плыли изжелта-бурые метельные тучи.
Впереди, на западе, в грохоте пушечных залпов, в грозовых раскатах бомбовых разрывов ожидали освобождения чуть тронутые голубоватой морозной дымкой свои, родные, советские края.
•
ДОРОГА НА БЕРЛИН
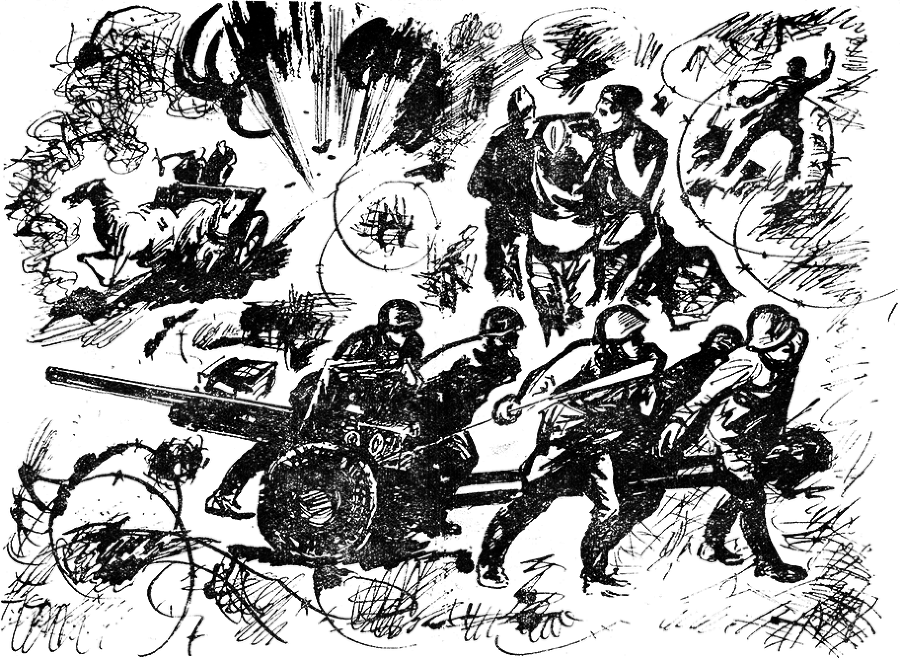
От Терека до Днепра
Мы едем знаменитой дорогой. Уже осталась позади Кайшаурская долина с багряно-желтыми виноградниками, уже исчезали в туманной дали воды Белой и Черной Арагвы. Уже миновали мы Гударский подъем и поклонились старому памятнику на вершине Крестового перевала.
Военно-Грузинская дорога. Тут воздвигал крепости Давид Строитель, тут, среди зеленых гор, жила царица Тамара. Почтовый дилижанс возил здесь великого Пушкина. Все вокруг полно величественного очарования: прячутся в облачной дымке лесистые вершины скал, молочной кипенью сверкает внизу дикий Терек, высоко, как орлиные гнезда, чернеют в горах амбразуры дотов.
Автомобиль мчится вниз. Слева и справа мелькают полосатые будки регулировщиков. Вокруг будок зелено-серебристые ели, белая вязь лозунгов, любовно выложенных из камней.
Дорога в горах. Девять раз пересекал я эту дорогу в дни кавказских боев. И мне кажется, что придет время, когда о Военно-Грузинской дороге, о ее героях будут писать большие книги. Тут тоже проходила линия фронта — с борьбой, с кровью, с победой.
Было время — кружились над дорогой косые тени немецких бомбардировщиков и горное эхо тысячекратно повторяло грохот бомбовых взрывов. С горных вершин ползли на дорогу страшные лавины снегов, грозя засыпать колонны фронтовых машин. Скалы низвергали вниз тяжелые каменные обломки.
Дорогу спасали люди. Люди-бойцы. Люди-герои. Темные от ветра, запорошенные снегом, молчаливые, с черными очками на лицах, в широких красных и синих штанах, с лопатами, кирками, топорами, они денно и нощно работали на своем посту: очищали дорогу от камней и снега, чинили мосты, прокладывали путь фронтовым колоннам. И машины — с людьми, боеприпасами, горючим, фуражом, провиантом — безостановочно шли на фронт…
Воет ветер в темном Дарьяльском ущелье. Недвижно высятся над ущельем розово-серые скалы. Неумолчно шумит бурливый Терек. В скалах, над самой пропастью, — каменный домик. Над низкой дверью высеченная на камне дата «1869». Из железной трубы вьется дым.
В домике живут девушки-регулировщицы. Нас встречает одна. Двое других на посту. В очаге пылает огонь. Девушка готовит завтрак. Потом садится читать. Уже убрано все, вокруг чистота. К ночи девушка пойдет на дежурство. Так изо дня в день.
О них тоже скажут в свое время, об этих девушках, труженицах войны. Здоровые, крепкие, они стойко переносят жизнь в горной глухомани. Днем и ночью стоят на посту и, вытянув желтый флажок, приветливо козыряя затянутой в перчатку рукой, пропускают машины…

Прямая, как стрела, отшлифованная тысячами колес вырывается из ущелья асфальтовая дорога. Проносятся назад домики, деревья, верстовые столбы. И вдруг сразу между двумя громадами снежных гор встает перед нами знаменитый Владикавказ.
Гизель, Ардон, Алагир, Старый Лескен, Эльхотово, Урух… Я помню эти места. Помню рыжую россыпь взорванных кирпичей, глубокие воронки от снарядов и бомб, поваленные телеграфные столбы, трупы в кюветах разбитых дорог. Я помню холодные зимние ветры и страду большого сражения — тяжкий орудийный грохот, злой скрежет танков.
Святые места терского рубежа! Уже заросли бурьяном воронки. Уже белеют на солнце новые телеграфные столбы. Уже говорливые женщины мирно везут на тачках огненно-красные горы сочных помидоров — последний дар осени.
В селениях хлопочут люди. Степенные старики в лохматых папахах подносят на носилках к эльхотовской школе известь и цемент. Смуглые девушки чинят шоссе и поют протяжные песни. Окруженная детворой седовласая старуха, усевшись на крыльце, вяжет чулок. Молчаливый пастух в войлочной шляпе, опершись на палку, стережет стадо овец за мостом. Серые ишаки, встряхивая пестрые ковровые мешки, лениво бредут к лесканской мельнице. У мельницы вкусно пахнет свежей кукурузной мукой. Жизнь идет своим чередом.
Люди залечивают раны. Днем хлопочут на работе, отстраивая разрушенные дома, собирая урожай с полей и огородов, а по вечерам вспоминают погибших сородичей, читают письма фронтовиков, говорят о завтрашнем дне.
Над дорогой, в кустах дубняка и акации, темнеют остовы немецких машин. Стрекочут над ними сине-белые сороки, вьется мошка. И стоят эти ржавеющие машины как напоминание о черном нашествии фашистских злодеев, как памятник недавних боев.
Дорога вьется в широкой долине, а слева, в призрачной голубизне, как волшебная декорация, белеет острая гряда гор. Серебряным облаком сияет исполинский Эльбрус.
Я вспоминаю о том, как в прошлом году немцы отправили на Эльбрус отряд альпинистов дивизии «Эдельвейс». Отряд шел с кинооператорами, фотографами, корреспондентами. Командир отряда капитан Грот величественно позировал перед кинооператорами, тирольские стрелки проделывали перед ними головокружительные трюки. Немцы печатали фотографии этого «горного похода» во всех журналах. А потом советские лыжники взошли на Эльбрус и водрузили на его вершине красное знамя…
Вот и Нальчик. Вырублены его парки, испоганены ровные улицы. Но город приводят в порядок: убирают кирпичи, ремонтируют дома, подвозят в машинах молодые деревца для парков.
Мы проезжаем ипподром. Тут немцы расстреливали жителей Нальчика, тут пытали стариков и женщин. Это тихое место, окруженное каменным забором и тонкими деревьями, было местом, где царствовала смерть.
Но дальше, дальше! Солнце опускается к снежной цепи гор, и долина залита волшебным озарением заката. Автомобиль несется на северо-запад, туда, к долинам прославленной Малки, к селениям Пятигорья…
Вечер. Старый кабардинец с красной бородой зовет нас на отдых. Тишина. В доме пахнет сушеными яблоками, молоком и овечьей шерстью. У порога лежат лохматые собаки. Мы долго плещемся, умываясь у колодца. Черноглазая девочка, кланяясь, подает нам чистое полотенце.
Старый Срух выносит из дома шуршащую циновку, расстилает ее на земле, становится на колени и молится, протянув сухие ладони туда, где сияет золотая вечерняя звезда.
Вот и Пятигорск. Девять месяцев прошло с того дня, как наши войска освободили город, а до сих пор в памяти еще живы картины холодного январского дня: черная копоть на стенах сожженных домов, сотни трупов на кирпичном заводе, хрустящие под ногами стекла разбитых вывесок и витрин, истерзанные деревья вокруг лермонтовского обелиска на Машуке.
Немцы бесновались в курортных городах Пятигорья: днем офицеры веселились в кабаках «Палас», «Варьете», «Фемина», ночью расстреливали жителей на Машуке, на кирпичном заводе, у Кольца-горы. Заправила немецких грабителей кригсфервальтунграт Клайкнехт, собрав вокруг себя спекулянтов, наживался на продаже спирта. Длинноносый зондерфюрер пастор Бертрамс публично благословлял массовые расстрелы евреев, а всякие гауптманы, обер-лейтенанты, фельдфебели рыскали по домам, секли людей розгами, стреляли из автоматов в санаторные зеркала, топтали клумбы в цветниках.
В дни своего бегства немцы изуродовали Пятигорск. Их руками были сожжены и взорваны гостиница «Бристоль», холодильник, вокзал, водопровод, почта, электростанция, санатории, лучшие школы, мосты.
Да, мы все помним январский день: тогда мела метель, и люди, запорошенные снегом, встречали наших бойцов со слезами радости и падали, рыдая над трупами убитых гитлеровцами близких, и с ужасом смотрели на испоганенный, исковерканный город…