— Все остальное немыслимо, — сказал я.
— Что именно? Возвращение домой?
— Да.
— Потрясающая новость, — сказал Влез с иронией. — Можно подумать, что мы этого раньше не знали. Можно подумать, что не потому мы добровольно покинули нерестилища высоких чувств, поверхность которых покрыта сплошной тиной. Таким толстым слоем, что уже ничего нельзя различить. Возвращение домой — стимулирующее средство. Приползти обратно к покинутым алтарям и к бабам в постель. Кто говорит о возвращении домой? Я говорю о поражении… Ты считаешь, у нашего Деда Мороза и впрямь есть блокнот в кармане? Нет, я ему не очень-то доверяю. По виду он похож на человека, который ни за что не признается себе в том, что потерпел поражение. А такие люди любят отягощать мир рассказом о своем незначительном прошлом. Разве все, что говорится, и все, что написано, не было создано неудачниками? Возьмем, к примеру, меня. Главное, надо позабыть об этом мертвеце. Пытаясь объяснить его поступок, мы все время объясняем себе свои собственные поступки. Даже в том, что он стоит стоймя, нет ничего нового. Ведь и мы тысячу раз упражнялись в этом ночью у себя в комнате, когда не было ничего другого, что могло бы нас отвлечь. А в это время вокруг нас люди согревались от испарений собственного тела. Хватит! Что нам еще остается? Потерять голову? Давным-давно это могло принести пользу: человек делал соответствующие выводы, ему везло, и он становился святым. Но к сожалению, это уже не соответствует той ступени развития, на которой находится наш мозг. Сейчас это — шарлатанство. Вот почему я решил признать свое поражение. Все остальное кажется мне настолько достижимым, что невольно вызывает подозрение. Таким образом, остается только самое недостижимое вернуться к той точке, где можно вести жизнь человека, потерпевшего крушение, не заставляя страдать других людей. Пусть этой точкой будут алтари и бабы, не возражаю. Если я нужен им, чтобы самоутвердиться, то я готов. Зачем отказываться? Ведь от нас хотят только одного — того, что может пригодиться в жизни, — а давать это легче легкого. Впрочем, не знаю, способен ли я и на это. Если способен, стало быть, мы уже созрели для абсолютной тишины, царящей здесь. Но на душе у меня такой ужасающий холод, что мне страшно! Боюсь, все, до чего я буду потом дотрагиваться, начнет превращаться в лед.
— Пошли, — сказал я, помогая ему подняться с сугроба.
Потом я сказал еще, что не сбежал, наверно, из-за него. Но по-моему, он меня не услышал; само собой разумеется, эти слова я произнес тихо.
— Знаешь ли, — начал он снова, — наш друг, наверно, вовсе даже не улыбается. Скорее всего, это просто непроизвольное сокращение мускула. А может, впрочем, он собрался спеть детскую песенку, например: «Свет мой, зеркальце! Скажи…» — или что-нибудь в этом роде. Хотел услышать собственный голос. И тут ему упали снежные хлопья на язык. Ах, с каким удовольствием я отодвинул бы этот знак на несколько сот метров дальше.
Лупа сияла теперь позади обледеневшего человека, освещая лицо Блеза.
— Это еще что такое?! — вскричал я.
Я здорово испугался, ибо Блез корчил глупые гримасы.
— Стараюсь запомнить его улыбку, — ответил он. — На фотографии она, возможно, не выйдет или выйдет плохо. А как знать, не понадобится ли эта улыбка мне, чтобы осчастливить какое-нибудь бедное создание.
Я взял Блеза под руку. На нас было наверчено столько шерсти, кожи и меха, что на ощупь мы походили на матерчатые куклы, набитые тряпьем. До теплой плоти, которая скрывалась под всем этим, никто не добрался бы при всем желании. Но движения наши были почти одинаковыми. Так мы дошли до палатки. Завтра ветер будет дуть нам в спину, подумал я. И Блез наверняка подумал о том же. Когда люди так понимают друг друга, слова излишни.
Это я записал много позже, записал, как умел.
Пер. с нем. Л.Черная.
Дело д'Артеза
Изобразить такого клоуна нелегко по
причине его чрезмерной реальности.
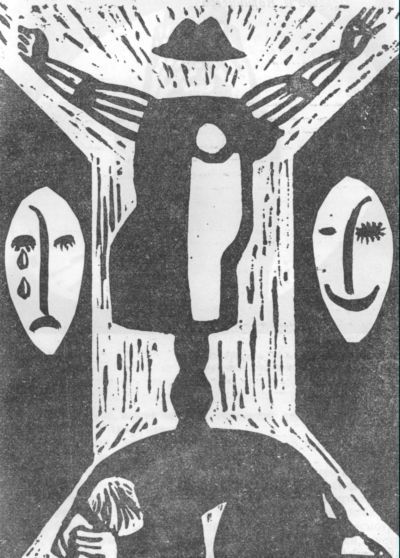
На вопрос, имеет ли он обыкновение делать заметки или вести дневник, д'Артез отвечал:
— Помилуйте, для нашего брата это было бы величайшей неосторожностью.
Господин обер-регирунгсрат Глачке был, разумеется, слишком искушенным чиновником, чтобы выразить удивление по поводу такого ответа. Сам автор этих записок при разговоре не присутствовал, а сидел, надвинув наушники, в темной кабинке, где подобные допросы записывались на магнитофон. Несмотря на это, он был уверен, что господин Глачке попытается, пусть хотя бы вскользь поставленным вопросом, поймать д'Артеза на слове. Достаточно было бы, вскинув брови, шутливо спросить; «Неосторожностью?»
Этого, однако, не случилось. Не говоря уже о том, что у господина Глачке начисто отсутствовало чувство юмора, его, кажется, в ответе и поведении д'Артеза насторожило нечто совсем другое, отчего он и оставил наметившийся след.
Что именно его насторожило, выяснилось тут же. То было отнюдь не подозрительное в данном случае словечко «неосторожность», как напрашивается догадка, а выражение «наш брат». Едва д'Артез удалился, господин Глачке неоднократно прослушал запись и на следующий день еще дважды — столь сильно встревожило его это выражение. Кроме ближайших сотрудников, господин Глачке пригласил на прослушивание даже известного эксперта по методике допросов из уголовной полиции, желая узнать его мнение. Очевидно, господину Глачке хотелось установить, можно ли на основе выражения «наш брат» заключить, что существует некая тайная партия или подрывная секта. Магнитофон, как правило, безошибочно обнаруживает такие нюансы, каких не уловить в непосредственной беседе.
Однако и запись не показала ни малейших изменений в голосе, ни бессознательного ударения на подозрительном слове. Единственно, что выявил магнитофон, — это легкое, но ничуть по странное в данном случае саксонское произношение. Впрочем, как явствовало из документов, д'Артез вырос и посещал школу в Дрездене. Судя по документам, он там и родился в начале 1911 года, месяц-другой спустя после возвращения его родителей из Нью-Йорка, куда они отправились в свадебное путешествие. Отец его собирался заодно ознакомиться с положением дел в производстве искусственного шелка в США и вступить в переговори с каким-нибудь нью-йоркским банком об участии в модернизации его дрезденского завода. Кстати, и мать, принадлежавшая по рождению к состоятельнейшим кругам богемских промышленников, располагала, по-видимому, прочными связями с иностранными, в особенности американскими, банками. По всей вероятности, именно это обстоятельство ускорило завершение переговоров.

Как ни странно, место и дата рождения д'Артеза во всех документах оказались помечены вопросительным знаком. С точки зрения тайной полиции, здесь могла быть речь о давнишней и весьма ловкой фальсификации, но, принимая во внимание многочисленные миновавшие войны, разрушенные города, уничтоженные архивы, а в особенности неоднократно менявшиеся идеологии, доказать, что налицо фальсификация, не представлялось возможным. Сам же д'Артез утверждал, что это вопрос второстепенный. В интервью по случаю своего пятидесятилетия он выразился следующим образом:
— Дата рождения — случайность, которой вполне можно пренебречь. Несравненно важнее знать, когда ты умер. Но как раз в этой дате большинство из нас ошибается. Вот и я, милостивые государи, не могу сообщить вам на этот счет никаких надежных данных.
И как обычно, трудно было понять, хотел ли д'Артез подобным заявлением уклониться от вопросов навязчивого репортера или таково его действительное мнение. Впрочем, речь об этом еще впереди.