Невозможность речи: Жак Дюпен, Матьё Бенезе
Вступительное слово переводчика
Предлагаемая подборка посвящена двум недавно умершим поэтам Франции. Они представляют два соседние литературные поколения, которые, к сожалению, знакомы отечественным читателям лишь очень выборочно либо не знакомы совсем, да к тому же малопривычны по стилистике.
Жак Дюпен — в ряду своих сверстников и друзей Ива Бонфуа, Андре Дю Буше, Филиппа Жакоте, Лорана Гаспара, Клода Виже, Жан-Клода Ренара, начинавших под эгидой сюрреализма, но решительно из-под нее ушедших, — дебютировал в пятидесятых. Его напутствовал один из крупнейших сюрреалистов Рене Шар, фронтиспис его первой книги рисовал опять-таки сюрреалист Андре Массон (следующую, в 1956-м, сопровождал рисунок Джакометти, третью, в 1958-м, — рисунок Миро, а это мастера того же сюрреалистского круга). Молодого южанина заметили и приветили другие, старшие, — Бланшо, Реверди, Понж, Лейрис. В полный рост Дюпен-поэт предстал в книгах уже шестидесятых годов, одна из которых здесь в небольших отрывках и дана (входивший в нее цикл «Растущая ночь» тогда же перевел на немецкий язык друг Дюпена Пауль Целан). Ключевым для дюпеновской поэтики тех лет крупнейший критик и историк французской словесности Жан-Пьер Ришар назвал слово «brisure», разлом. Читатели даже в приводимых скромных по объему фрагментах легко уловят сквозные мотивы тогдашней лирики Дюпена — ночь, гора / камень, огонь, разрыв / раскол, лезвие, схватка, исчезновение / небытие. Может быть, еще важнее другое: неустранимо вопрошающая природа этой лирики, настороженной по отношению и к слову, и тому «я», которое все-таки решается его произнести. Поэт здесь мучительно ищет себя, чтобы решительно самоуничтожиться, и это, хочу подчеркнуть, не просто глубоко персональная тема Дюпена, но и черта поколения, формировавшегося в годы всемирной бойни, в тени нацистского Аушвица и вишистского коллаборационизма, в десятилетие между «Ненавистью к поэзии» Жоржа Батая (1947) и «Эрой подозрения» Натали Саррот (1956). «…общепринятому языку, — писал Дюпен в предисловии к важному для него сборнику шестидесятых годов „Карабкаться“, — поэт доверяется только с тем, чтобы его приумножить и утратить, оставшись, со своей стороны, признанным и отвергнутым родной речью. Коммуникация, которая тут возникает, даже если следующее слово просто соединить с предыдущим, — не обмен, а обман, перебор, глубочайшее недоразумение. Стихи стремятся к одному: чтобы их огонь разделили, но в отсутствие поэта. Поэтому все, что он втягивает в собственные становление и опыт, все, что влечет его за собой и не дается слову, в конце концов, изгоняет поэта с места казни, испепеляет его имя и говорит его голосом».
«Крестным отцом» уроженца Средиземноморья Матьё Бенезе, дебютировавшего в конце шестидесятых, был тоже сюрреалист в прошлом Луи Арагон. Сам автор в одном из интервью признавался: «Я сосуществую с Матьё Бенезе, но я не Матьё Бенезе… Нужно оставаться другим, чтобы суметь лицом к лицу встретиться с самим собой». Тема сомнения в слове и во власти поэта над ним, а значит, над миром — важнейшая и для Бенезе. Вряд ли случайно, что с детских лет он любил искусства, обходившиеся без слов (музыку, живопись), а среди искусств словесных предпочитал надличный и многоликий театр. Причем тот, который у нас в стране прежде называли «театр у микрофона», радиотеатр. Поэзия Бенезе чаще всего строится как музыкальная партитура (мело-драма), состоящая из разных, но не чужих друг другу голосовых партий. Недаром собственно стихи в его томиках перемежаются прозой, а напоминающая палимпсест лирика переслоена датированными записями в дневнике, пронизана цитатами и примечаниями. Так построена и последняя из стихотворных книг Бенезе (он, по образцу Бодлера, Рембо, Малларме, писал стихи именно книгами), фрагменты которой печатаются ниже. Это своего рода прощание с поэзией, которое представлено в мифологических образах встречи-разлуки Орфея и Эвридики, бесконечно длимой поэтом, снова и снова растравляющим пережитую боль. Книга состоит из трех частей: собственно «Афонии Гегеля», где поэзия названа «невозможной» — разве что в форме «другой», возникающей из неопределенности, «подвешенности» смысла (suspense du sens) и существующей на правах «провала», «краха» (effondrement, désastre, échec); сюиты «Орфей, проклятие», в которую, кроме заглавного, входят циклы «Что говорит Эвридика» и «Но я ищу Эвридику», и заключительной коды «Так спи же, Орфей». Знаковое для звуколюба Бенезе заглавие книги «Афония Гегеля» — отсылка к гегелевским пророчествам о конце искусства и как бы подтверждающему их многодесятилетнему безголосию друга гегелевской молодости Гёльдерлина. Автор расшифровывал это название как передышку, которую — на время? — берет поэзия. После выхода «Афонии…» в 2000-м году целиком (до того она печаталась в разные годы отдельными частями) Бенезе выпустил еще несколько романов, драм, сборников эссе, антологий своей поэзии за разные десятилетия, но новых стихотворных книг больше не публиковал.
Жак Дюпен
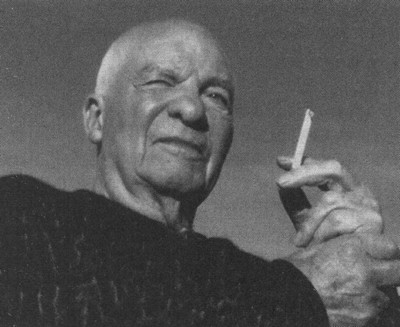
Из цикла «Растущая ночь»
Из цикла «Морены»
Опыт неохватный, чрезмерный, неизгладимый — поэзия не захлестывает со всех сторон, а, напротив, углубляет, и всегда наперед, пробудившие ее обделенность и муку. И не ради ее триумфа, а ради их общего провала и плодоносного, следом за ним, разрыва делает поэт решительный шаг навстречу ее полной потере. Не в его власти присвоить это падение себе, он не вправе им ни завладеть, ни воспользоваться. Это просто дорожное происшествие, но с каждым разом оно обходится тяжелее. Поэт мелок, нищ, абсурден, как любой из людей. И все же его ярость, его слабость, его путаность могут преобразиться в работу стиха и этим коренным, не возвышающим, а сокрушительным переворотом восстановить хрупкое согласие, которое делает человека в его разорванности открытым, а мир для него — обитаемым.