Солдаты и пахари


РОДНИКИ

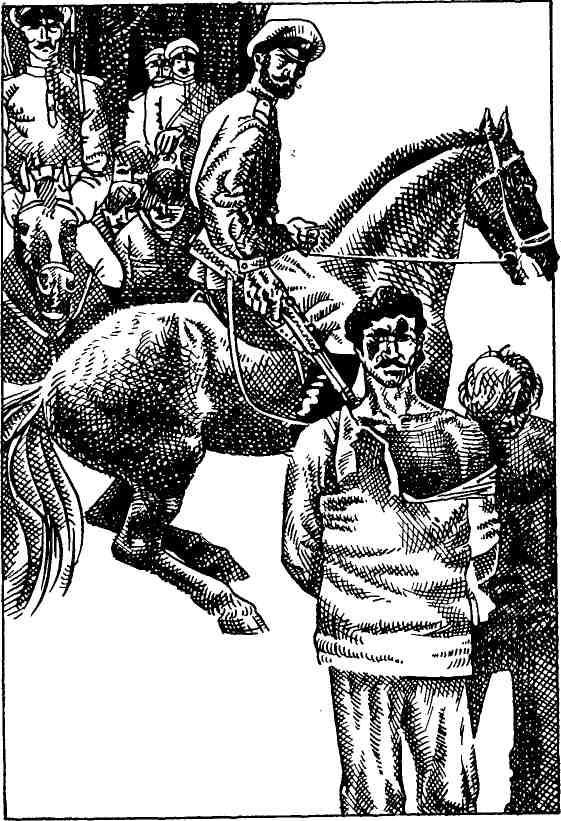
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Туча встала из-за леса, надвинулась на Родники и замерла. Сухо треснул гром, словно какой-то неведомый небесный призрак сломал о колено гигантскую лучину. Первые крупные дождины зашлепали по дороге, вздымая султанчики пыли. Скоро водяная пряжа притянула тучу совсем низко к земле, и тогда разошелся ливень.
Макарка не прятался. Отдавшись на волю теплого летнего косохлеста, он вздрагивал под ударами крупных колючих капель, придерживая под уздцы саврасого иноходца. А когда дождь закончился так же неожиданно, как и начался, и огромный солнечный гвоздь, проникнув сквозь тучки, накосо ударил по церковной маковке, глазам Макарки предстал новый цвет — серебряный: такое разлилось сверкание от пролитой воды. Серебряно зазвенели жаворонки над поскотиной, и из дальнего края села, тоже серебряно, запела гармоника.
— Вот хлестанул дак хлестанул! Пополам с солнышком: праведник, видно, преставился! — Макарка ласково погладил коня, сгоняя с крупа воду, и повел его от берега, в гору. Во дворе Саврасый, уловив тонкими розовыми ноздрями запах корма, встряхнулся, нетерпеливо забил копытом, потянул в стойло, к овсу.
— Давай угощайся, — дружески сказал ему Макарка и, прибрав узду, полез на крышу сарая. Пологая зеленая от лишайника крыша — заветное Макаркино место. Он любит передохнуть здесь, в людях и на усторонье, разостлав полость, погреться на солнышке, любит наблюдать с вышины пыльную деревенскую улицу, рассматривать исполненные искусными резчиками по дереву украшения стоящего через дорогу питейного заведения.
Сегодня в Родниках Троица! Престольный сельский праздник. Хозяин, волостной писарь Сысой Ильич Сутягин, с сыном Колькой после обедни захмелились «ерофеичем», укатили на паре вороных невесть куда. Кухарка Улитушка лоснится от жару в кути, взъедается на девок-помощниц, а заодно и на писареву дочь Дуньку. Стряпает, печет, жарит. Аппетитный кухонный дух долетает до Макарки: брюхо — злодей, старого добра не помнит. Макарка сглатывает слюну и кричит Улитушке:
— Закрой окошки, чего расхабазила?!
— А тебе каку холеру надо, ирод? — огрызается Улитушка.
Она спешит. Уезжая, хозяин приказывал поторапливаться: гости будут, чтобы выпить было и закусить — всё, как следует. Вдогонку добрых людей не потчуют.
А село шумит, звоном колокольцев из края в край заливается. На тройках, парах и в однопряжь со всего прихода съезжаются к престольному празднику мужики. В кабаке усиливается пьяный гуд, всплескивается песня:
— Отец мой был природный пахар-р-р-ь!
— Гу-ля-ам!
Макарка до лафитничков не охотник: хмель, он, как ливень, оглушит и пройдет, и остается человек опять один, только звон в голове да старые думы больнее думаются. И денег у Макарки для этого дела не имеется: хозяин не платит за работу. «Харч, одежа, — говорит он, — и то много. Не ндравится — катись к едрене-фене!»
Никто добром не знает Макарку в Родниках. Откуда приблудился? Чей? Напрочь запрятал парень прошлое свое от людей. Не тянет его и в родные места. Никто не ждет, не сохнет. А была когда-то нареченная. В прислугах у попа жила, Любашка. Колечко обручальное примеряла. «Люб ты мне, горюшко мое!» — говаривала. Мак-девка! Красавица! Рослая, под стать Макарке. Сам он — дюжий парень. Грудь из одних мускулов свита, руки цепкие, тяжелые. Веснушки, разбежавшиеся по переносью, делают лицо добрым, улыбчивым. Передариться уж было хотел с невестушкой Макарка, скапливал на венок, да на башмаки, да на чулки с перчатками, да на зеркальце с гребенкой, на румяна разные и помаду. «Отработаем срок у попа — уйдем вместе, повенчаемся!» — заявлял. А вышло все по-другому, с другой долей повенчался. Приехал к священнику летом из духовной семинарии сын Иннокентий. Мосластый, долговязый, с заросшим черной щетиной кадыком. Шельмовато взглядывал на Любашку, кривил в улыбке рот: «Уродится же красота божья!» Однажды, после обеда, когда все по принятому у попа обычаю спали, направился Макар к сеновалу и услышал приглушенный стон, доносившийся оттуда. Метнулся по лестнице и увидел в дальнем углу ее на сене, потную, в слезах. А рядом — отрок.
— Чего тебе?! — рявкнул было Иннокентий на Макарку. Но потом переменился в лице, подался навстречу.
— На красенькую. Молчи.
Макарка медведем двинулся на Иннокентия, хватая ртом воздух. Сгреб его за кадык, уронил на кучу старых объедьев. Не разжал пальцы до тех пор, пока попович не испустил дух.
Зимой того же года сиплая «кукушка» катила зарешеченные вагоны на восток. С бубновым тузом на спине, почерневший от горя, парень то метался во сне, то бирюком сидел на нарах. Однажды ночью, при подъезде к большой сибирской станции Голышмановой, арестанты разобрали пол. На полном ходу повыпадывали в снежную темень. Жить? Умереть? Какая разница!
Успел в эту ночь Макарка лишь добраться до какого-то селеньица да променять арестантскую одежду на старый зипун и валенки, как в избенку сердобольной старушки, приютившей его, заявился деревенский староста. Арестовали сызнова, отправили в острог. Месяц продержали в камере, допрашивали, кто такой, откуда взялся, а потом, в самые крещенские морозы, пригнали в Родниковскую волость и определили на поселение.
— Живи тут! — сказал Макару писарь, теперешний его хозяин, и показал ладонью на пустынно-мерзлую деревенскую улицу.
— Где?
— А вот энтого не знаю. Заночевать можешь в нашей сторожке покуда. А утром иди по дворам, в работники наймуйся, еду зарабатывай. Не вздумай убежать: подохнешь.
— Поселенец, стало быть? — спросил вечером сторож, веселый мужик с заячьей губой.
— Вроде бы.
— Ну, так что ж, ночуй, не жалко места. Только смотри не сопри что-нибудь.
— Брось, дядя!
Сторож опустил вконец искуренную самокрутку на земляной пол, растер подшитым кожей валенком.
— Меня, стало быть, Иваном Ивановичем зовут. Оторви Головой дразнят.
— А меня Макаром.
— Давай чаевать будем да спать.
Всю ночь ворочался на лежанке Макар. Думы тяжким камнем сердце привалили. Под утро не вытерпел, поднялся, спросил у Оторви Головы:
— Как тут жить-то, дядя?
— А хрен его знает как! — со смешком ответил мужик. — По-разному люди живут. Маракуй сам. Одно скажу: трудом праведным не наживешь палат каменных… Вот возьми хотя бы мою жизню… Сызмальства ворочаю, как ломовик, девка у меня растет, Марфушка, спины не разгинает, и все одно: собаку из-под стола выманить нечем… У другого, стало быть, по-другому. Писарь наш, Сысой Ильич, и лавочку не одну имеет, и прасольствует, и ямщина волостная за нем.
— Как это он так оборачивается?
— А так, — сторож заговорил полушепотом. — Не чисто досталось ему богатство-то. Подкараулил, сказывают, одного ирбитского купчишку в глухом месте, топором по башке… и все! Золотишко забрал, с тех пор пухнет!
— Выходит, грабитель?
— Нет. Не докажешь… Никто не видал и не слыхал и об ту пору живой не бывал… Вот как надо деньгой-то обрастать.
— Из-за богатства сроду бы не взял грех на душу.
— Оно, опять же, для кого как. В бедности, браток, тоже не шибко сладко… Ну ты давай, поспи исче!
Макар и не думал, что утвердится в Родниках надолго, да податься было некуда: в земле, говорят, — черви, в воде — черти, в лесу — сучки, а в суде — крючки. Не сознался он, угодив еще раз в тюрьму, ни в чем, приняли его за обычного бродяжку, и стал он прозываться в Родниках Макарка-поселенец.