Владимир Зиновьевич Санников
Записки простодушного
Милым моим детям — Оле и Андрею
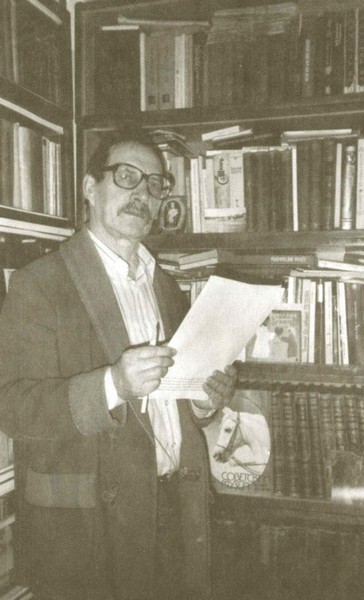
Родные мои! В минуты душевной «благостности» я рассказывал вам о своем детстве и юности. Хотя жизнь моя была избавлена (слава Богу) от необычайных потрясений и приключений, но я чувствовал ваш живой интерес к моим рассказам и желание сохранить их в вашей памяти. Быть по сему.
Может ли написанное представлять интерес для кого-то еще? Воспоминания интересны, если это воспоминания людей известных или о людях известных. Ни к одному из этих разрядов мои воспоминания отнести нельзя. Но относятся они к военным и «околовоенным» годам, интерес к которым, наверное, никогда не угаснет. Многие самые яркие, самые драматичные эпизоды этих лет запечатлены в романах, фильмах, мемуарах, но для создания целостной картины, может быть, представляют интерес будни далекого от войны Прикамья, где прошли мои детство и юность.
Бунин приводит старое мудрое изречение: «Вещи и дела, аще не написаинии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии…»
Картинки моего детства

Думаю, вы согласитесь, что о детских годах дворянских недорослей XVIII–XIX веков мы имеем более живое, ясное представление, чем о детстве наших современников.
Хотите пережить еще одно, военное, детство, сравнить его со своим, понаблюдать за другой эпохой, другими нравами и обычаями, довоенным и военным бытом? — Милости просим.
Главное (может, единственное) достоинство моих заметок — их фактографичность. Даже все имена и фамилии — подлинные. Бунин, один из любимых моих писателей, признавался, что почти ничего не помнит о своем детстве, отрочестве. Странно, но я, человек с памятью отнюдь не идеальной, многие картинки детства помню очень хорошо, так, будто было это только вчера. Ручаюсь, что в этих заметках нет не только эпизода, но даже и мелкой детали, придуманной, вставленной для «оживления рассказа». Достоверность многих из приводимых эпизодов могут подтвердить мои воткинские родственники, друзья, знакомые.
С умолчаниями — сложнее. Несколько эпизодов, крайне тяжелых, я опускаю…
Пытался было я пригладить, «причесать» речь моих родичей — бывших крестьян, но тотчас переставал их чувствовать… Их и без того уже бледные лица совсем стирались из памяти. Не могу я заставить маму говорить што (а не чо), ребятишки (а не робетишка), очень (а не больно или шибко).
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Предки мои с обеих сторон — и Санниковы и Лагуновы — крестьяне прикамской Пермской губернии.
Хранить память предков как-то не было принято. Глубже третьего-четвертого поколения родовая память не копала — если не было чего-то уж крайне необычного. У нас в роду сохранилось лишь предание о моем прапрадеде-богатыре (а может, он был и прапрапра…). На узкой зимней дороге он не захотел уступить дорогу встречному обозу и в завязавшейся потасовке спихнул обоз (людей вместе с лошадьми и санями) в глубокий снег. Возмущенные мужики пожаловались на «фулюгана» в суд, но ничего не добились, кроме сраму. «И не стыдно вам семерым на одного жаловаться?» — будто бы сказал судья и потом добавил, обращаясь уже к ответчику — прапрадеду моему: «Иди, русский богатырь, но пусть удаль и сила твоя тратятся не на озорство, а во славу Государя и Отечества нашего!»
Кроме этого его «богатырского подвига», достойного Васьки Буслаева, известен еще один, тоже весьма сомнительный (нам рассказывала о нем мама).
В деревне, где жил прапрадед, стали пропадать овцы. «Ну, видно волки балуют!» — думали мужики попервоначалу. А потом подозрение пало на пришлого мужичка, Родиона, и мужики, нагрянув под водительством прапрадеда моего в его избу, нашли у него спрятанные в бочке и прикрытые сверху квашеной капустой шкуры украденных овец. Мужичок забился с топором в подполье: «Не подходи, убью!» Предок мой нацарапал что-то на листке бумаги (может, грамотный был) и кричит: «Радивон! Выходи, ничего тебе не сделам, только акт подпиши!» И жена мужичонки тоже кричит: «Выйди, Радивон, выйди да распушися!» (тут мама поясняла: «Они откуль-то приехали, вот она и говорила чудно: не роспишися, а роспушися»). Мужик бросил топор, вылез. Его схватили, повели по улице и на глазах всей деревни забили насмерть — почему-то досками (может, чтобы следов не оставалось?). Жестоко? Еще бы. Но — я уверен, что никто из деревенских ребятишек, которые всё это видели, никогда на воровство не пошел. И потом, в предвоенные и даже военные годы в деревнях пермских воровства не было (если не считать воровства лошадей цыганами). Идешь летом по чужой деревне и можешь заходить в любую избу. Никаких замков. Только кой-где к дверям прислонен батожок — знак, что хозяев нет дома.
Вернемся, однако, к прапрадеду. Увы, сила рода нашего ушла, видимо, на этого богатыря. Природа решила, что допустила тут некоторый перерасход, и стала экономить на следующих поколениях — все предки мои по отцовской линии крепки, жилисты, но не отличались ни ростом, ни особой физической силой. Вот духовной — это да.
АКИМ НИКИТЬЕВИЧ САННИКОВ
Дед по отцу, Аким Никитьевич, старовер (старообрядец) воевал и в Русско-японскую, и в Первую мировую войну, был контужен, засыпан в окопе землей и, несомненно, погиб бы, если бы не откопал его односельчанин, Манойло. Этот Манойло запомнился нам, ребятишкам, громадной рыжей бородой и тем, что, выпив на деревенских гулянках, пел одну и ту же странную песню:
Когда мы, дети, впервые увидели деда, мы чуть ли не попрятались под кровать — перекошенное лицо, один глаз незрячий, громадный, красный, другой — маленький, едва видный сквозь сморщенные веки. Но столько доброты и ласковости было в нем, что очень скоро мы перестали замечать его уродство. Как мы радовались, когда он приезжал в Воткинск из деревни! Когда он ложился отдохнуть, сухонький, пахнущий сухими травками, мы со всех сторон облепляли его, стараясь если не лечь рядом, так хоть рукой до него дотянуться. А он гладил нас, никого не обходя вниманием, и рассказывал что-нибудь: про японскую войну или как «в германскую» отступали они в жару из Пруссии, и воды не было, и ноги стерли до крови, и уж не было сил бежать…
И уже тогда поражала меня его незлобивость. Его, немало послужившего России, инвалида, георгиевского кавалера, всю жизнь травили большевики. Но и к ним, и к совершённому ими «октябрьскому перевороту», и к насажденному ими строю относился он с философским (точнее — христианским) спокойствием.
Помню эпизод, в конце войны или вскоре после войны. Лошадь у деда уже продана (налоги задушили), корова еще не продана, но кормить-то ее — нечем! Мы с дедом косили по каким-то полянкам в лесу — тайком. Никому они не нужны, полянки эти, но косить запрещалось (как же — колхозная собственность! Буквально — «собаки на сене!»). Подсохла наша трава, пора сгребать сено, а тут — дождь. Дождались мы ясной погоды, подсушили сено (хотя оно уже второго сорта, подмоченное) — и снова дожди, да затяжные. И гниет наше сено… Дождались, однако, солнышка, снова переворошили, подсушили сено, идем сгребать его в стог — снова дождь, и сильный! Всё! Теперь уж пропало сено, сгнило. Чем же корову-то кормить? И вот тут дед преподал мне (не в первый и не в последний раз) жизненный урок, который я пронес (увы, не очень успешно ему следуя) через всю жизнь. Переждали мы ливень под деревом. Солнце, словно издеваясь, выглянуло полюбоваться на нас и на погибшее наше сено. Дедушка говорит: «Ну, дак чо, Вова? Чо Бог делат, всё к лучшему!» И это не была бравада какая-то, а всё вполне искренне. Пошли домой. Зовёт меня: «Давай-ко, милой сын, вон там, я знаю, земляничник есть, давай ягодками полакомимся!»