Януш Домагалик
Конец каникул

Я стою в большом актовом зале незнакомого мне еще лицея, а вокруг новые лица: учителя, которым полагается теперь говорить «профессор», вместо обычного «вы», и огромная, заполнившая зал до отказа толпа девочек и ребят. Со стены глядит на нас, скосив глаза, Николай Коперник. Кто-то произносит речь.
Но я не слушаю. Никто, впрочем, не слушает, зал гудит сотней голосов, каждый говорит вроде бы шепотом, но гул — как в переполненном вокзале. Мы уезжаем. Еще несколько выступлений… Загорелые девочки в белых блузах, парни поправляют галстуки, непривычные красные значки на рукаве. Иначе говоря, конец каникул.
Невесело мне. Мне ли одному? Я вижу другой зал — в нашей старой школе, где мы были выпускным классом и где с нами прощались, чтоб здесь сегодня могли приветствовать нас.
Это было всего два месяца назад. Каникулы только еще начинались, они могли принести что угодно: солнце и дождь…
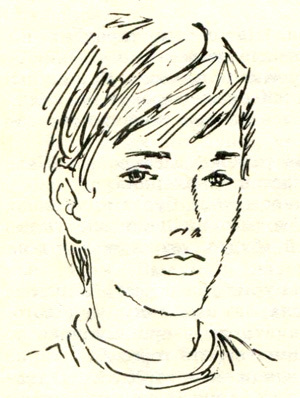
Глава 1
Жарища страшная, а до рыночной площади больше километра. Что прикажете делать? Я криво так улыбаюсь и говорю:
— Ладно! Схожу я, куплю эти семена. Посажу завтра у нас на участке…
— В четыре ряда? — настойчиво спрашивает мать.
— В четыре, в четыре… — говорю я и тяжело вздыхаю, чтоб поняла, как трудно дать обещание.
Уже открыв дверь, я слышу голос отца:
— Спроси у Дерды про Рыжего. Он может быть еще и у ксендза в плебании…
Город точно вымер, изнемог от зноя. На шахте тарахтит не переставая сортировочная машина, огромные колеса подъемников сонно вращаются. Я иду не спеша и думаю о разном. Каникулы испорчены, черт побери! Надо было остаться в деревне у дяди. А я взял да вернулся в середине июля, все ребята, конечно, поуезжали, придется теперь скучать одному.
— Добрый день, пан Холева! Что?.. На рынок, за семенами. Нет, отец в отпуск не уезжает. Это мама уезжает в санаторий…
…Только бы не притащился к нам вечером, а то будет нудить до самой ночи. Мама его терпеть не может, а сегодня надо еще укладывать вещи… Ералаш в квартире такой, будто уезжаем мы все. Зачем это маме два чемодана?
А может, залезть после ужина к кому-нибудь в сад, нарвать яблок, папировки?.. Одному? Нет смысла, в одиночку никакого удовольствия. А Рыжего давно пора ощипать да в суп. Сколько у меня из-за него, подлеца, хлопот. Бегай, ищи его по городу…
И это называется город! Дыра прокопченная — не город. Хоть два раза в день мойся, рубаха все равно черная от сажи. И откуда только она берется? А кинотеатр всего один. Да и тот полгода на ремонте… Боже ты мой, ну не может старик Кусмерек гнать коров по мостовой, а не по тротуару.
— Эй ты, бычок, уйдешь с прохода или нет?
Я свернул к реке, так ближе. Мутная вода точно стоит на месте. Здесь еще тише, чем на улице. Смотришь отсюда на город, и кажется, будто весь он разложен на миске и разделен пополам рекой, а на меловых холмах торчат с одной стороны шахты, а с другой, там, где рыночная площадь, костел, окруженный домами. И все это залито солнцем, которое так и пригибает тебя к земле.
…Или взять семена. Зачем матери на садовом участке цветочки, если целый месяц ее все равно не будет дома?
— Левкои, левкои, левкои… — твержу я, чтобы не забыть, за какими семенами иду.
— Передай тому парню привет! — раздается вдруг рядом.
Гляжу: Толстый разлегся на травке и загорает, вытянулся, как крокодил.
— Какому еще парню?
— Ну тому, с которым разговариваешь про левкои. Ведь не со столбом нее ты говоришь? — И Толстый корчится от смеха, думает, сказал что-то остроумное.
Я обрадовался. Хоть он в городе. Все же веселее.
— Ты что, в лагерь не поехал?
— Денег, понимаешь, не наскребли…
— Порядок, Толстый. Вот нас и двое…
— Трое! Еще Проблема. Но у него гости, он в счет не идет. Влюбился…
— Да ты что, спятил?
— Приходи вечером. Кое-что расскажу. А сейчас спать охота… — И Толстый перевернулся на другой бок.
Я кивнул в ответ. В самом деле, жара такая, что язык не ворочается. И отправился дальше.
На улицах ни души, только на рыночной площади у ларька с пивом собралось человек пять шахтеров. Продавщица подремывала, а они молча накачивались пивом. Одного я знал — Вуйтик, он недавно купил автомобиль, «сиренку». Я бы и сам чего напился, да не было лимонада… А Зонтик сказал как-то на географии: пивом и лимонадом не напьешься, жажду можно утолить только подсоленным чаем. Выдумал, наверно… Впрочем, не поручусь… Кто его знает… Почему это мы прозвали его «Зонтик»? Не помню…
Я купил пакетик с семенами, поглазел на трамвай, который что-то забарахлил — из-под дуги сыпались искры; потом зашел в плебанию. «Только б не встретиться с ксендзом», — думал я, пока шел через сад. Как-то я залез сюда с ребятами за яблоками, а кто-то сообщил ксендзу…
Комната викария Майхшака была, к счастью, со стороны двора, да еще на первом этаже, так что заходить в дом не требовалось. Окно было открыто, и викарий сразу меня узнал. Я даже удивился, чего это он подскочил вдруг к окну и машет руками, но не долго думая говорю:
— Нету у вас случайно нашего Рыжего? Отец меня послал… Только тут я заметил в комнате ксендза. Отскочил, но было уже поздно.
— Что это вы, викарий, глухого из меня делаете? — кипятится ксендз. — Я ведь отлично слышу, что речь о голубе, не об органисте. Органист у нас не рыжий, а лысый!
Уже у калитки я слышал, как викарий пытался его урезонить, а тот разорялся:
— Сколько раз просил вас покончить со своими голубями! На что это похоже? К вам больше голубятников ходит, чем верующих на исповедь!
Жаль, что викарий из-за меня засыпался. Таких почтовых голубей, как у него, я нигде еще не видел. Ну какой убыток ксендзу, если у него сорвут одно-другое яблочко или держат в плебании голубей? Сухарь, и больше ничего… Но по-настоящему во всем виноват был Рыжий. Черт, не голубь. И я еще больше рассердился на этого подлеца.
Старику Дерде не понадобилось объяснять, в чем дело. Он стоял посреди двора и пальцем пересчитывал голубей на соседней крыше. А те сидели, разомлев от жары, — в такой зной даже голубю не летается. Иначе б он их недосчитался. Он отдал мне Рыжего и сказал:
— Посадите его на цепь. Или продайте, он у меня больше живет, чем у вас!
Возвращался я мимо кино. Голубя посадил за пазуху и придерживал одной рукой. В другой у меня был пакет с семенами.
Подул ветерок, и стало веселее.
Не знаю, как это получилось. Сзади вдруг взвизгнул тормоз, что-то ударило в спину. Наверно, я растопырил руки, потому что Рыжий забил крыльями возле самого моего носа и пошел вверх. Потом внезапная боль, и сразу стало сладко во рту, точно от сахара.
Оказалось, что я сижу на краю тротуара, а с мостовой поднимается какая-то девочка. Рядом со мной лежал ее велосипед, переднее колесо еще вращалось. Лицо у девочки скривилось от боли, а платье все в пыли. Она держалась за колено. Я хотел потолковать с ней насчет езды, но заметил, что локоть у меня в крови, и охота ссориться пропала. Впрочем, и она брякнулась, наверно, неплохо. Аварии бывают. Я поднял ее велосипед и говорю:
— Знаменитый гонщик Форнальчик! Пойдем, я покажу, где вода… Мы умылись во дворе за кинотеатром, не сказав друг другу ни слова. Наконец она, видно, пришла в себя и стала причесываться. «Красивая какая!» — подумал я и страшно удивился. Ни разу еще я не замечал, чтоб девочка была красивая, а ведь я с первого класса учусь вместе с девчонками и знаю их немало. Эта была чужая. Светлые волосы закинуты за спину. Она долго их расчесывала, желала, может, показать, какие они пышные. Она не обращала на меня внимания, кажется, ее не интересовало, что одной рукой мне не повязать вокруг локтя носовой платок. Сам не знаю почему, я рассердился.