
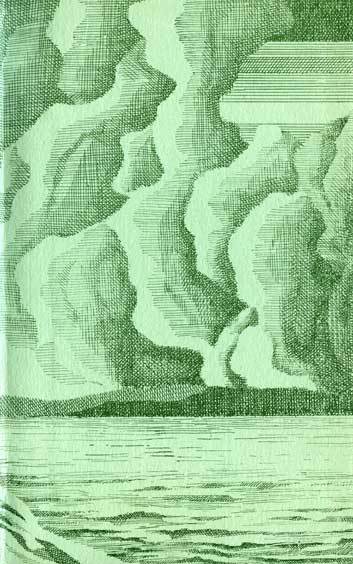

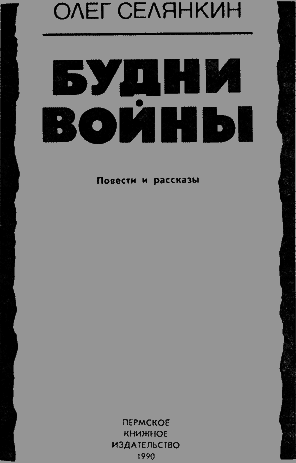
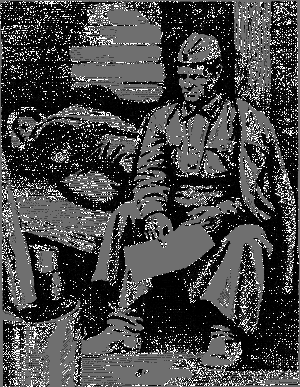
Олег Селянкин
БУДНИ ВОЙНЫ
1
Комары плотным клубящимся роем вились над капитаном Исаевым. Успевшие испить человеческой крови гнусавили сыто, удовлетворенно, а прочие — нетерпеливо, даже требовательно. Капитан, казалось, не замечал ни тех, ни других. Как и поплавка из обыкновенной бутылочной пробки; этот поплавок уже пятый час недвижимо лежал на черной воде маленького озерка, которое со всех сторон обступили высоченные корабельные сосны, сейчас казавшиеся насупившимися, мрачными. Капитан Исаев мысленно вновь и вновь возвращался к разговору с командиром полка. Состоялся тот разговор вчера перед самым отбоем, когда у солдат по распорядку дня значится личное время. Командир полка, казалось без какого-либо повода, подошел к нему, капитану Исаеву, в ответ на уставное приветствие не только козырнул, но и руку пожал. Сильно, чувствовалось — искренне. А почему бы и нет? Или пятнадцать лет назад не теперешний (подполковник пришел в роту его, Дмитрия Исаева, самым обыкновенным взводным командиром?
Потом командир полка щедро раскрыл свою пачку «Казбека» и увел капитана Исаева под одинокий каштан, около которого никого не было. Здесь, когда первые две папиросы приказали долго жить, подполковник и начал разговор. О жизни вообще, о видах на урожай в этом году, о том, что в последние два месяца немецкие летчики почему-то стали слишком часто терять ориентировку в небе, ну и оказываются над нашей территорией; их бы — хотя бы одного! — сбивать зенитками или с помощью истребителей, а мы вместо этого германскому правительству лишь ноты вежливые шлем. Короче говоря, обыкновенный разговор шел, каких уже состоялось — не счесть. Самый обыкновенный для тех дней и в спокойных тонах. И вдруг подполковник, старательно разминая новую папиросу и вильнув глазами в сторону, повел речь о том, что любой человек сам должен чувствовать, когда ему надлежит обязательно уходить в относительное жизненное затишье.
Тут у капитана Исаева непроизвольно и вырвалась глупая присказка, за которую ему уже не раз крепко перепадало и от начальства, и от жены:
— Вот тебе, кума, и уха из петуха!
В ответ подполковник матюгнулся беззвучно, одними губами, и сказал с горечью, которую, и не пытался скрыть или подчеркнуть:
— Ты, Дмитрий Ефимович, не терзай мою душу, с пониманием к моим словам отнесись… Сверил я свою память с твоим личным делом. И получилось, что ничего я не путаю, что в Красной Армии ты служишь уже двадцать первый год и семнадцать из них — в должности командира роты. Разве это порядок?
Капитан Исаев, подумав, сказал, старательно растерев каблуком ялового сапога только что прикуренную папиросу:
— Вас понял… Разрешите идти, товарищ подполковник?
Ушел — какое-то время вроде бы бесцельно побродил по военному городку, в душе с гордостью и одновременно с горечью осознавая, что здесь многие домики с помощью и его рук воздвигнуты. Походил — и решил немедленно идти на рыбалку. Чтобы никто думать не мешал, не туда, где всегда хороший клев (народищу там тьма!), а на это начисто забракованное рыбаками глухое лесное озерко. Принял решение — забежал в комнатушку, которая почти весь последний год была его холостяцким домом, не выбирая, взял удочку, напросившуюся в руку, вместо червей или другой какой насадки прихватил кусок хлеба, и почти бегом сюда. А еще минут через двадцать пробковый поплавок шлепнулся на черное зеркало воды. С тех пор недвижимо и сидит здесь капитан Исаев. Напряженно думает. О словах командира полка. О своей жизни вообще.
Правду сказал подполковник: двадцать первый год служит он, Дмитрий Исаев, в Красной Армии. Как только может добросовестно. И намеревался не расставаться с армией до тех пор, пока здоровье будет позволять.
Теперь, конечно, вовсе другой коленкор…
А что до сих пор выше командира роты, не продвинулся… В этом, может быть, и не только его вина? Ведь в мирной жизни человеку, насмелившемуся посвятить себя военной службе, иногда бывает ой как трудно пробиться к приличным командным высотам, убедить начальство и самого себя, что есть у тебя талант военачальника. Действительно, как докажешь это, действительно, по каким признакам можно догадаться о наличии его, если пушки, пулеметы и винтовки подают голоса только на полигонах во время учений? Нет, не найдено пока таких признаков. Потому и случается, что иной генерал или другой какой человек, сидящий высоко, кладет глаз на того, у кого звонкий голос и отменная выправка, на ком казенное обмундирование сидит как влитое.
Среди молодых командиров встречаются, разумеется, и ловкачи. Эти, чтобы привлечь к себе внимание начальства, заслужить его благосклонность, почти на каждом собрании нарочно слово брали, эти во время частных бесед с нужным им человеком, если выпадало такое счастье, точнехонько в нужную минуту правильные слова говорили. Правильные с точки зрения того, кто их должен был услышать.
Да и внешность человека порой большую роль играла, чем следовало бы…
Он, Дмитрий Исаев, словно нарочно, был начисто лишен всего этого. Взять хотя бы внешность. Рост ровно двести один сантиметр. Словом, каланча, а не человек. К этому росту да еще бы широкие плечи, грудь колесом и лицо хотя бы относительной приятности — в царское время без промедления зачислили бы в какой-нибудь гвардейский полк. Но плечи у него самые обыкновенные, спина чуть сутуловатая. Да и лицо скуластое, большой тарелкой. И тощий был такой, что ребятня несмышленая Кощеем дразнила; к тому же — и белобрыс до неприличия. Настолько проигрышной была его внешность, что командование полка, если ожидался приезд начальства, обязательно проверяло, чтобы он, Дмитрий Исаев, не оказался в наряде, чтобы не случилось так, что ему придется идти к прибывшим с рапортом.
Если же коснуться умения в нужную минуту сказать требуемое начальству словцо, подобострастно улыбнуться или даже чуть согнуть спину в подобии почтительного полупоклона, то откуда все это могло у него взяться, коль родился и рос он среди молчаливых, вроде бы угрюмых людей, которые превыше всего ценили умение добротно работать и абсолютную честность человека? Он родился не в рабочем поселке, где кто-то о продовольственном и прочем заботился, а в деревеньке, припавшей своими домиками и огородами к очищенному от колючих и мохнатых елок пологому склону горы, в самой обыкновенной уральской деревушке, где хлеба и в урожайный год до новой осени еле-еле хватало. Так что обыкновенной ржанухи он досыта поел лишь тогда, когда призвали на службу в Красную Армию. Служить пошел без каких-либо восторгов, даже несколько настороженно, но и без откровенной боязни неизвестности: или мы не знаем, что вовсе нельзя душевно паниковать, когда трудное начинает осаждать тебя со всех сторон? А потом — пообтерся, пообвык и вдруг понял, что военная служба ему очень даже по душе. Не сытная кормежка и справное обмундирование завлекли. Прежде всего потому военная служба по душе пришлась, что невероятно нужным, необходимейшим для Родины человеком он себя в армии почувствовал: ему оружие в руки она дала, ему доверила защиту своих пограничных рубежей; и общий порядок, и сознательная дисциплина, конечно, тоже свою роль сыграли.
Красная Армия тогда еще только становилась по-настоящему на ноги, только наращивала свою мощь, поэтому командиры всех рангов ей были очень нужны, вот, приметив старательного и жадного до знаний бойца, командование для начала и послало его на одни курсы, потом — на вторые, после окончания которых он и возвратился в родной полк уже командиром взвода. С год или чуть подольше пробыл в этой должности, а потом роту принял. И все последующие годы командовал ею. В том же полку, в каком начал военную службу. Вместе с полком, в его составе, повинуясь приказам командования, побывал и в горячущих песках под Ашхабадом, и среди крутолобых сопок на Дальнем Востоке, а летом прошлого года и сюда, в Прибалтику, считай на самую западную границу Родины, прибыл.