Альберто Моравиа
Рассказы
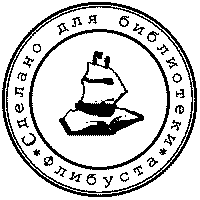
Облеченный властью
Он сидит передо мной, по ту сторону огромного, не меньше четырех метров в длину, стола; стол старинный, резной, орехового дерева. Стены его просторного кабинета обиты красным дамаском, сводчатый потолок расписан. Письменный стол, кресло и стул, на котором сижу я, — вот и вся обстановка. Я смотрю на него: он в темном костюме, темном галстуке, белой сорочке, в нем есть что-то от военного в штатском. На столе — все необходимое для письма: кожаная папка, авторучка, набор карандашей, стопка бумаги, пресс-папье, но все новенькое, словно этим никогда не пользовались. Рядом стоят два телефона и диктофон. В кабинете лишь одна дверь — та, в которую я вошел. Значит, он заставил меня ждать почти полчаса по какой-то особой, неведомой мне причине, а отнюдь не потому, что, скажем, писал или принимал посетителей.
Со стола мой взгляд переходит на него. Я впервые замечаю, что у него орлиный нос и пухлые щеки. Странно, я всегда считал, что нос у него прямой и щеки как щеки. Орлиный нос, с узкими ноздрями, с аристократической горбинкой посередине, является признаком властности и жажды повелевать, пухлые щеки — признак тщеславия. Вдруг я вспоминаю, что когда я вошел, он принял меня стоя за своим столом, но не подал мне руки. Я говорю:
— Я тут проездом и подумал, что не худо бы заглянуть к тебе. Я решил, что ты будешь рад повидаться со старым другом.
Он некоторое время молча глядит на меня своими странно тусклыми и неподвижными глазами и наконец произносит:
— Разумеется, рад, я всегда рад видеть тебя. А вот что касается твоей идеи пожаловать ко мне сюда, — и он подчеркивает слово «сюда» паузой, — это другой вопрос. Ты хорошо сделал, если пришел в качестве просителя или с каким-либо предложением, но сделал плохо, если пришел лишь затем, чтобы поздороваться со мной.
Он говорит медленно, через силу, делая ударение на каждом слове, как будто желает показать, что беседует со мной исключительно из любезности. Я недоумеваю:
— Что-то я тебя не пойму.
— А тут и понимать нечего: это — место моей работы, и я не могу позволить себе роскошь принимать здесь друзей просто так, чтобы только поболтать с ними.
— Понимаю, ты очень занят.
Он начинает смеяться, и смех у него какой-то странный, полувежливый-полуиронический, но взгляд при этом остается совершенно неподвижным.
— Нет, я не очень занят. Более того, у меня нет абсолютно никаких дел — во всяком случае в данную минуту. Но в некотором роде можно все же сказать, что я в высшей степени занят.
— Так занят ты или нет?
Рассудительный, назидательный тон его ответа вдруг напоминает об одном из его главных былых достоинств: глубокой осознанности собственных поступков и умении четко обосновать любой из них.
— Если говорить о делах, связанных с должностью, на которую меня пригласили, то я свободен, ибо в данную минуту, как я уже сказал, делать мне особенно нечего. А вот если говорить о стремлении соответствовать своему положению, то я действительно занят, в высшей степени занят.
— Извини, но я опять не совсем тебя понимаю.
Он пристально глядит на меня, словно решая, стоит ли продолжать этот разговор, и потом объясняет:
— А ведь это не так уж сложно: здесь от меня требуется, во-первых, выполнение того, что называется моей работой, и, во-вторых, что гораздо важнее, осуществление власти.
— Осуществление власти? Кажется, начинаю понимать...
— Давно пора. Итак, почему осуществление власти значительно важнее, чем работа? По той простой причине, что моя работа ничем не отличается от любой другой чиновничьей работы и, в сущности, не имеет ко мне ни малейшего отношения, тем более что она по плечу кому угодно; а вот осуществление власти — это действительно мое дело, имеющее ко мне непосредственное отношение, коль скоро я уверен, что оно требует определенного призвания и особых качеств.
— И конечно, тебе не занимать ни того, ни другого, не так ли?
Он смотрит на меня, некоторое время колеблется, но потом, зачарованный, словно миражем, сознанием собственной значительности, вновь отдается порыву чуть ли не наивной искренности:
— Я не думал, что это так. Напротив, я был убежден, что вовсе не создан для власти. Разумеется, я знал, что власть существует, но из соображений морального порядка исключал для себя факт ее существования, не видя в ней практического смысла. Я считал, что ее не следует принимать в расчет, особенно человеку творческому. Но потом, очутившись в этой комнате и усевшись в это кресло, я открыл в себе призвание и качества, о которых и не подозревал. А главное: я все понял.
— Что же ты понял?
— Я понял, что на определенном уровне и при определенных обстоятельствах работа ровно ничего не значит, становится всего лишь одним из аспектов — и притом отнюдь не самым важным — осуществления власти. И что, напротив, именно это-то осуществление власти, даже если оно не сопровождается работой, как таковой, является само по себе делом, профессией.
Оживившись, он улыбается мне самодовольно, с видом победителя, словно иллюзионист, объясняющий технику фокусов.
Я замечаю не совсем уверенно:
— Да уж известно, власть — это власть.
— Тавтология, но абсолютно верно, — комментирует он улыбаясь. — Власть — это власть. Однако давай уточним. Что такое власть в данном случае?
Я растерянно гляжу на него и повторяю как попугай:
— В самом деле, что же это такое?
— Власть, — начинает он тихо, вкрадчиво, назидательно, — это прежде всего темный костюм, темный галстук, белая сорочка. Помнишь мои прежние немыслимые брюки и спортивные куртки? С ними покончено.
— Ясно. Власть — это манера одеваться. Пожалуй, что и так.
— Именно так. Власть — это также кабинет, в котором я сижу шесть часов в день. Обрати, пожалуйста, внимание на ковер, обивку стен, роспись на потолке, посмотри на стол, кресло, стул — все это власть.
Я с готовностью соглашаюсь:
— Конечно.
— Распорядок моего дня — тоже власть. Мой приход, что называется, вселяет душу в неподвижное, безжизненное тело. Я — душа этой части здания. Душа приемной, где сидит впустивший тебя курьер, душа соседней комнаты, которую занимает секретарша. Моя душа, то есть моя власть, простирается до архива в одну сторону, до конца коридора — в другую. Когда меня нет, все замирает в ожидании, когда я здесь — все приходит в действие. Вот что такое власть.
На минуту он умолкает, и мне кажется, что он задыхается от какого-то вдруг овладевшего им странного возбуждения. Потом он продолжает:
— Власть для попавших сюда — это два телефона, по которым можно говорить одновременно. Одна трубка в руке, другая — прижата к уху плечом. Это диктофон, при помощи которого я могу связаться с курьером и секретаршей. Это — папка, чернильница, стопка бумаги. Правда, я не звоню по телефону, не пользуюсь диктофоном и ничего не пишу, но в моей власти все это делать. Обрати внимание, я употребляю именно выражение «в моей власти», чтобы указать на возможности, которые открывают передо мной все эти предметы.
Я говорю:
— Это все, так сказать, признаки власти, ее важные атрибуты. Но что же все-таки такое власть как профессия?
Он смеется и отвечает:
— Власть как профессия — это преобразование любого вида деятельности, в том числе и работы, в проявления власти.
— Объясни, пожалуйста, что это значит.
— Ну, например, я выхожу из кабинета и направляюсь в туалет, чтобы удовлетворить естественную надобность. Я иду с высоко поднятой головой, выпятив грудь, энергично размахивая руками, глядя прямо перед собой. Завидев меня, курьер вскакивает с места. Вот тебе одно из самых обычных, повседневных действий, которое становится проявлением власти.
На этот раз смеюсь и я: