Гамаюн — птица вещая
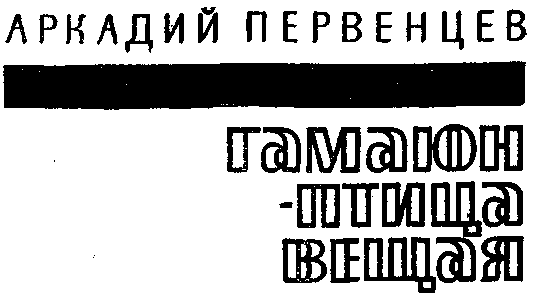

Р2
П—261
Первенцев Аркадий Алексеевич
ГАМАЮН — ПТИЦА ВЕЩАЯ
М. «Московский рабочий», 1967, 368 с.
Редактор В. Яковченко
Художественный редактор И. Терехина
Художник М. Шлосберг
Технический редактор М. Похлебкина
Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6.
Л77704. Подписано к печати 29/III—1967 г. Формат бумаги 84x1081/32. Бум. л. 6,0. Печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,16. Тираж 100 000. Тем. план 1966 г. № 165. Цена 80 коп. Зак. 413.
Набрано в типографии изд-ва «Московский рабочий», Москва, Петровка, 17. Отпечатано в типографии «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наивная — кобылица сухая и нервная. Два года назад ее привели из Венгрии, по импортному ремонту. Эта дикая табунная кобылица досталась курсанту Николаю Бурлакову после того, как чуть не оторвала зубами ухо Кешке Мозговому, а второго курсанта, Жору Квасова, лягнула в грудь. Только стальное тело Квасова сумело выдержать такой удар. Квасов исстегал кобылицу длинным ременным бичом и ушел в околоток, схватившись обеими руками за грудь.
Комвзвода Арапчи, жестокий службист и смелый наездник, с наслаждением наблюдал за разыгравшейся сценой — с некоторых пор он возненавидел Жору Квасова. Арапчи был старшиной школы и растрачивал всю свою неукротимую энергию потомка кочевых цыган и свой мстительный, озлобленный характер на воспитание порученных ему курсантов. Кто-кто, а Арапчи мог вытянуть из человека все жилы, заставить беспрекословно выполнять любое приказание. Все личное оставалось за пределами казармы, манежа и просторного двора кавдивизии, обнесенного монументальным кирпичным забором.
Арапчи презирал Мозгового за плоскую грудь, вялые мускулы и изворотливый ум и в конце концов загнал его в каптерку. Квасовым же в душе восхищался: и ловкостью его, и яркой мужской красотой, и умением схватывать и исполнять приказания на лету. Арапчи выбрал этого молодого рабочего парня из десятков других и сделал его своею правой рукой. Квасов легко вышел в отличники, лучше многих рубил, выкидывал разные фортели на вольтижировочном седле, пленяя простодушных шефов текстильщиц, метко стрелял, крутил на турнике «солнце», чего только не делал Жора Квасов! Арапчи души в нем не чаял. И вдруг любовь превратилась в ненависть. Как позже выяснилось, Квасов отказался «тянуть» своих товарищей, в общем, не вышло из него правой руки старшины. Его списали в пульэскадрон, на тачанку, а потом уволили в запас рядовым.
Спустя год был уволен в долгосрочный отпуск и его друг Николай Бурлаков.
И вот Наивная, темно-гнедая кобылица венгерских кровей, последняя память о дивизии, осталась далеко-далеко позади. В ушах Николая еще слышится ее ржание.
...Поезд пересекал Донецкий бассейн в сплошной мутной пелене студеного осеннего дождя. Через окна вагона проникали едкие запахи паровозного дыма. На перронах толпились мокрые люди с мешками и сундучками. На лицах будто вырублена железная решимость попасть в поезд, а раз попал, то и доехать до места. В сброшенных с плеч мешках похрустывали сухари. В дерюжки аккуратно завернуты топоры и пилы. Строители шли со своим инструментом на Магнитку, в Кузбасс, в Сибирь.
Никто не жаловался, не скулил, не надоедал своими лишениями и горечью. Ели хлеб, пироги с картошкой и рыбой, отрезали острыми, как бритвы, ножами ломтики от больших кусков сала, потом бережно прятали сало в холстинку. Кое-кто прикладывался и к баклагам. В нехитрой крестьянской таре хранился свекольный первач.
Читали газеты, верили каждому слову, запоминали цифры. Капитализм был обречен, будущие строители заводов и домен не сомневались в этом. Твердо, на крепчайшей основе, стояла только одна шестая часть суши. То, что было задумано в расчете на пять лет, проворачивали в три года. Разбуженная энергия народа обрушивалась на лопасти мощных турбин и вертела их.
Молодые люди с кимовскими значками орали песни с такими дерзновенными словами, что мороз пробегал по коже. Судьбы их складывались вместе с эпохой. Их матери подавляли в себе сомнения и жалость, штопали сыновью одежонку в дорогу, выплакивались в одиночку, а к детям выходили с сухими глазами.
— Удивительный народ! Пятнадцать лет кипит как в котле, и хоть бы что! — приподнимая рыжие брови и неподвижно уставясь в невозмутимое лицо Бурлакова, говорил его вагонный попутчик, назвавшийся инженером Парранским. — Только прошу запомнить, моя фамилия произносится и пишется с двумя «эр». Паранские с одним «эр» имели сахарные заводы на юге, пускались в сомнительные предприятия и... как вы понимаете, отшелушились от нашей системы. Я никакого отношения к ним не имею и в родстве с ними не состою. Мой отец знал Мамина-Сибиряка, служил в Екатеринбурге, его имя Илья Андреевич, мое — Андрей Ильич. Я тоже служу молоху, как и мой тезка Андрей Ильич Бобров. Доводилось читать Куприна?
Николай Бурлаков ежился под этим пристальным, испытующим взглядом фаянсовых глаз, стыдливо краснел, когда вопросы ставились с полной бесцеремонностью. Никогда в жизни он не слыхивал ни о каких Парранских, ни с одним, ни с двумя «эр», Куприна читал, однако ни фамилии, ни тем более имени и отчества главного героя не запомнил. Екатеринбург теперь, кажется, Свердловск. А что касается знакомства папы этого рыжебрового и краснобородого служителя молоха с Маминым-Сибиряком — врет, без зазрения совести врет.
Будь тут Кешка Мозговой, он ответил бы, за словом в карман не полез. Он сумел бы точно так же положить ногу на ногу, откинуться на спинку дивана и закурить с фасоном, оттопырив мизинец, и этим же мизинцем небрежно и ловко сбросить пепел.
Но рядом Кешки не было. До Жоры Квасова — еще далеко. Жора Квасов по-братски пригласил Николая не куда-нибудь, а в Москву. Письмо с адресом лежало в левом кармане гимнастерки. Квасов с присущей ему прямолинейностью и радушием предлагал другу обосноваться в Москве, не забираться снова в деревню, хотя дела там идут в гору, текут туда машины из Харькова, Ленинграда и Ростова-на-Дону. Жора обещал устроить Николая на фабрику, познакомить с «рено» и «Веревочкой». Что означали последних два слова, Николай так и не мог разгадать.
Миновали Украину. Дневная сутолока, песни, разноголосица уступили место сонному бормотанию и храпу. В коридорах не протолкнуться: люди сидели, привалившись друг к другу, прикорнув у стенок. В вагоне затопили добытым в пути углем. Стало теплее. Кисло запахло просыхающая одежда. Угрюмые дядьки, ввалившиеся в купе после Артемовска, наелись лука и сала, свирепо обсудили вопрос о каких-то гадах, не то подкулачниках, не то троцкистах, мешавших развиваться колхозу согласно партийным решениям, и, подложив под головы мешки и сапоги, улеглись спать на верхних полках.